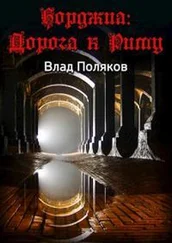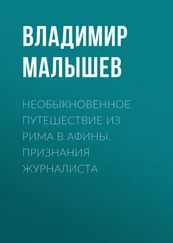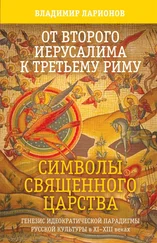Ответ на этот вопрос напряженно искал заведующий кафедрой классической филологии нашего института профессор Игнатий Лукьянович Криштофович. Говорили, что он сыграл особую роль в жизни Платона Демьяновича, чуть ли не спас ему жизнь. Основным трудом Игнатия Лукьяновича был учебник латинского языка, рекомендованный для средних и высших учебных заведений, где латынь все еще преподавалась. Этот учебник, по слухам, был написан перед войной в соавторстве с Чудотворцевым, вернее, самим Чудотворцевым, едва ли не умиравшим с голоду без работы. По настоянию Игнатия Лукьяновича Учпедгиз даже заключил с Чудотворцевым договор на написание учебника, но имя Чудотворцева тогда не могло появляться в печати, и единственным автором учебника со всеми его переизданиями так и числился Игнатий Лукьянович Криштофович, отдававший, правда, гонорары за учебник Чудотворцеву или, во всяком случае, делившийся с ним.
Отлично помню этого приземистого пухленького господина с лучисто зеркальной лысиной, в которой, казалось, не могло не отражаться лицо собеседника, если бы собеседник позволил себе взглянуть на уважаемого профессора сверху вниз. Криштофович любил называть себя однокашником Чудотворцева (разумеется, в тесном кругу). Но даже в тесном кругу такое однокашничество вызывало недоумение и разногласия. Люди недалекие и не особенно близко знающие Игнатия Лукьяновича (например, кое-кто из приближенных к нему студентов) понимали это в том смысле, что Игнатий Лукьянович едва ли не ровесник легендарного Чудотворцева, но даже для меня уже было очевидно, что Криштофович моложе Чудотворцева, по крайней мере, лет на пятнадцать. Скорее подобное однокашничество могло означать, что оба они принадлежат одной культуре, то есть получили одинаковое образование. Криштофович не только закончил классическую гимназию, но даже и университет до большевистского переворота, хотя, конечно же, не одновременно с Чудотворцевым, чьи лекции он слушал, когда учился в университете. И еще один смысл мог быть у этого загадочного однокашничества. Оно могло означать также соавторство, так сказать, однокормушечность, вынуждающую однокашников, хочешь не хочешь, делиться гонорарами. С такой точки зрения однокашником Криштофовича и косвенно самого Чудотворцева оказывался я сам, ибо как раз в то время я работал над докладом «Фауст и прекрасная Елена». Эту тему доклада для студенческой научной конференции предложил я сам, и, хотя на кафедре склонны были считать ее слишком трудной для второкурсника, Игнатий Лукьянович поддержал меня и с тех пор начал продвигать в аспирантуру по несколько неопределенному профилю «История классической филологии». Со временем доклад мой превратился в статью, написанную мною на немецком языке (не без редактуры тети Маши) и опубликованную в ГДР, в академическом журнале, естественно, в соавторстве с И.Л. Криштофовичем. Таким образом, я вышел на академическую дорогу, как говорила в своем кружке ma tante Marie. Так или иначе, я оказался вхож на кафедру классической филологии и, работая над своим докладом в так называемом филологическом кабинете, получил возможность присутствовать при конфиденциальных переговорах и консультациях, которые проводил Игнатий Лукьянович по поводу все той же юбилейной конференции, посвященной Чудотворцеву.
В моем присутствии Игнатий Лукьянович подолгу советовался со своим клевретом и фаворитом по имени Григорий Богданович Лебеда. Характерно, что Лебеду Игнатий Лукьянович никогда не называл своим однокашником, хотя с ним он уж точно учился в киевской классической гимназии и в Московском университете. Вообще, куда ни приходил работать Игнатий Лукьянович, он приводил (переводил) с собою верного Лебеду. «Всю жизнь ем хлеб с лебедой», – шутил по этому поводу Игнатий Лукьянович. (Кстати, до конца тридцатых годов, то есть до присоединения Галиции, он именовался «Игнатий Люцианович», что говорило о польском или об униатском происхождении даже помимо фамилии Криштофович, и отчество Лукьянович появилось несколько неожиданно, но тем прочнее укоренилось вместе со своим носителем.)
Необычайное везение и высокий авторитет Игнатия Лукьяновича в преподавательских и академических кругах объяснялись не только его дореволюционной интеллигентностью и несомненным культурным лоском. Немалое значение для его карьеры имел брак с балериной, о котором знали все, хотя мало кто видел ее на сцене, а ее имя на моей памяти не произносилось публично никогда, и я сам случайно узнал, что зовут ее Елена (Хелена) лишь после того, как доклад мой превратился в статью и, обосновывая свое соавторство, Игнатий Лукьянович в доверительном разговоре со мной сослался на это существеннейшее для него обстоятельство. В самом деле, как не быть автором или, на худой конец, соавтором исследования о прекрасной Елене филологу, чью супругу зовут Елена?
Читать дальше