Я старался быть с ней и Анечкой как можно больше времени, сам помогал Матреше, сделавшейся и нянькой, ухаживать за нашим чудом. Меня окружил удивительный мир младенца, состоящий из неведомых ранее занятий, вроде мытья рожков и сосок, или присыпки опрелостей, или принюхивания к пеленкам, или сцеживания. Молока было так много, что Катя сцеживалась над раковиной в кухне, свесив грудь, как вымя.
Днем некогда было остановиться, задуматься, но по ночам накатывал потный страх, что с Анечкой может быть что-то не так. Я прогонял его, смеялся над ним — ведь иначе акушерка сказала бы. Самое простое было позвать доктора. А еще лучше — докторов, но снова накатывал страх, что они найдут что-то в нашем ребенке, и я откладывал вызов врача на потом, говоря себе, мол, успеется.
Очень скоро у Кати сделалась грудница, и она кричала от боли всякий раз, когда ребенок брал грудь. Потом молоко исчезло.
Начались визиты, всем хотелось обязательно взглянуть на нашу крошку, но по городу ходила простуда, и я строго запретил кого-либо впускать в детскую, боясь, что занесут какую-нибудь дрянь. Одним из первых появился Соловьев. Я давно его не видел, он стал еще больше, потливее, мохнатее, отпустил брюхо. Я и его было не хотел пустить к Анечке, но он попросту отодвинул меня от двери:
— Я, между прочим, доктор.
Он долго осматривал девочку, мял ей ножки, переворачивал, держал над столом, будто хотел, чтобы она сразу пошла. Я с тревогой смотрел на него.
Раздался звонок, пришел еще кто-то, Катя вышла из комнаты. Соловьев спросил меня, не было ли у меня или у Кати в роду каких-либо отклонений. Я ничего такого не знал.
— Что-то не так? Скажи, с ней что-то не в порядке? Почему ты задаешь такой вопрос?
Он засмеялся:
— Я задаю такой вопрос, потому что у меня диплом практикующего врача и такой вопрос положено задавать всем. А девка у вас просто замечательная! Смотри, какой гренадер!
Анечка стала плакать, я отнял ее у Соловьева. Тут прибежала Катя с бутылочкой, пора было кормить.
Ночью ребенок захныкал. Я взял его из кроватки и отнес к себе в кабинет
— Катя плохо себя чувствовала в тот день.
Я прилег на диван и положил Анечку к себе на живот. Лежал и слушал, как она спокойно и ровно дышит. Смотрел на отпитый стакан с водой, забытый на комоде, прислушивался к шарканью запоздалого прохожего за окном, к скрипу пружин тюфяка, на котором ворочалась Матреша, поселившаяся у нас в маленькой комнатке при кухне — и впервые в жизни чувствовал себя замечательно большим, этаким всесильным великаном, Микулой Селяниновичем, могущественным, бесстрашным, бесконечным, и все только потому, что на моем животе посапывало это крошечное существо, беззащитное, ранимое, бессознательно уверенное в моем всевластии, в том, что на этом свете, где никто никого не любит, я никому не дам ее в обиду. В ту ночь я понял, что мне совершенно нечего бояться: что бы ни сказали доктора, это ничего уже не сможет изменить в нашем с Анечкой мире.
На следующий день я договорился о приеме у лучшего городского педиатра, Ромберга. В назначенный день мы появились у него все втроем.
Ромберг оказался высушенным стариком, руки его плясали, глаза слезились, по коже ползли старческие пигментные пятна.
Он осмотрел Анечку и сказал, что видит некоторые задержки в развитии, но они связаны с ранними родами.
Катя осталась в смотровой комнате одевать Анечку, а я прошел с Ромбергом в его кабинет, как мне казалось, чтобы расплатиться, и уже достал бумажник.
— Присядьте, — сказал он мне хмуро, плотно прикрыв за собой дверь.
Я сел. Уже в ту секунду я понял, о чем он сейчас будет говорить.
— Постарайтесь выслушать меня спокойно, — продолжал Ромберг, перебирая свои трясучие пальцы. — Я не буду никак вас подготавливать и скажу вам прямо: ваш ребенок не такой, как другие, и никогда не будет таким.
Он стал сыпать медицинскими терминами. Я перебил его:
— Но его видела и акушерка, и… и еще один врач, и никто ничего мне не сказал.
— Думаю, что и акушерка все знала, и этот ваш еще один врач. Но попросту испугались. Знаете, в таких делах… Чтобы сказать родителям такую правду, нужно или мужество, или, если хотите, жестокость. Проще решить: пусть узнают от кого-нибудь другого.
Он помолчал, пожевал губами. Стал перекладывать на столе бумаги с места на место, бумаги тоже тряслись. Потом сказал другим голосом:
— Вы извините, что я грубо говорю с вами. Все люди от беспомощности становятся грубыми.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
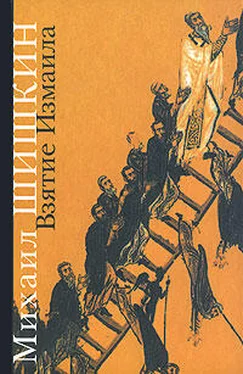



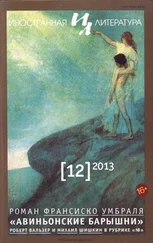





![Михаил Шишкин - Буква на снегу [litres]](/books/413547/mihail-shishkin-bukva-na-snegu-litres-thumb.webp)
