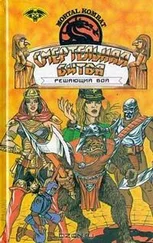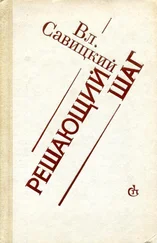Какой девушкой была Айна! Она была радугой небес, нежным цветком полей, украшением моей книги! А теперь... Поблекли розовые щеки, лицо побледнело. Радостный блеск ее черных глаз погас, и смотрела она безразлично на все окружающее. Склонилась высоко поднятая голова, опустились плечи, крепкий стан ослабел. Ее ноги, так легко касавшиеся земли, казалось, потеряли былую силу... За эти шесть месяцев Айна словно состарилась на шесть лет.
В кибитку неуклюжей походкой вошла мачеха. Это была все та же Мама — она не постарела и не помолодела. На нее не подействовали ни потрясения, пережитые народом, ни тяжелое состояние Айны, ни засуха. Лицо ее с двойным подбородком по-прежнему лоснилось от жира, глаза как обычно, смотрели на все беззаботно. Она отерла пухлые щеки концом головного платка и вздохнула. Затем подняла тяжелые веки и уставилась сонными глазами на Айну:
— Эй, девчонка, что это с тобой? Ах, чтоб тебе... Что, тебе царя жалко?
Когда-то Айна была бессловесно покорной. Но теперь изменился не только ее внешний вид, другим стал и характер. Стыдливая нерешительность уступила место резкой прямоте и даже дерзости, особенно, когда она говорила с мачехой. Даже не взглянув на Маму, она резко ответила:
— Пропади он пропадом, ваш царь, да и все на свете!
— Замолчи, проглоченная землей! Тебе ли об этом говорить? Вот потому и шатается мир, потому и земля не родит, что развелось множество таких бесстыдных и распутных, как ты.
Айна, сердито сдвинув черные брови, в упор посмотрела на мачеху:
— А кто же, как не ты, искромсал мое сердце? Кто, как не ты, подрезал корни моей жизни и вверг меня в пучину страданий?
Мама обычно не понимала насмешек Айны, а на ее колкости не обращала внимания. Но при этих словах она вздрогнула, точно от укола иглой, и бросилась на подушку, тяжело вздохнув:
— Спаси аллах от злого языка неучтивых!
Артыка везли в Ашхабад в вагоне с железными решетками на окнах. Кровавые рубцы на его руках ничем не лечили, только прижигали, как огнем, густым йодом. В пути он ни с кем не мог разговаривать, так как сидел в узком, как гроб, отделении вагона; всюду в проходах стояли часовые.
В Ашхабаде его ждала еще более страшная одиночка. Его втолкнули в тесную темную камеру, где едва умещалась железная кровать. Окованную железом дверь с лязгом захлопнули и заперли на замок. Артык почувствовал себя отрезанным от всего мира. Лишь через маленькое окошко над койкой к камеру проникала узкая полоска света.
На вопросы следователя он отвечал прямо.
— Ты участвовал в нападении на город?
— Да.
— С кем?
— Со всем народом.
— Зачем ты нападал?
— Чтобы свергнуть царя.
— Кем ты был у бунтовщиков Эзиза?
— Сотником.
— Сколько человек присоединилось к Эзизу из твоего аула?
— Не знаю.
Он отвечал на этот вопрос: «Не знаю», даже когда жандармы кололи его штыком. Его пытали всячески, стараясь узнать имена принявших участие в восстании, но сломить его мужество не могли. В ответ на угрозы он говорил:
— Другого ответа вы не получите, хоть изжарьте меня и сожрите.
В течение шести месяцев Артык не видел никого, кроме часовых да следователей с переводчиками. Каждый день в определенный час со скрежетом открывалась тяжелая, окованная железом дверь и арестованному давали черпак мутной горячей жидкости, лишь отдаленно напоминавшей похлебку. До его слуха доносилось только шарканье солдатских сапог по асфальтовому полу коридора, звон дверного замка, когда поворачивался в нем ключ, да порой гудки паровоза. В конце концов он стал свыкаться со своим одиночеством и жил только воспоминаниями о прошлом. Как во сне, проходили в его памяти далекий аул, недавние события, старая мать, попрыгунья, сестренка, Айна... Артык перебирал всю цепь событий, которые привели его в тюрьму. Перед глазами проходили вереницы людей, с которыми связала его судьба, друг Ашир, отправленный на тыловые работы, товарищи по дейханскому восстанию. Вспоминались и враги — Халназар-бай, арчин Бабахан, хромой писарь Куллыхан...
Так шли долгие месяцы. В один из весенних дней, тихо щелкнув, открылось маленькое окошечко в двери, и в нем показались два смеющиеся глаза. Не обращая внимания, Артык продолжал лежать на своей койке, Но стоявший за дверью позвал его:
— Артык Бабалы, иди-ка сюда...
Только теперь Артык узнал единственного тюремного друга: это был один из часовых, русский солдат, который иногда украдкой давал ему кусочек сахару или ломоть хлеба с маслом. Когда Артык отказывался, солдат почти насильно заставлял его взять и каждый раз на ломаном туркменском языке произносил несколько утешительных слов.
Читать дальше
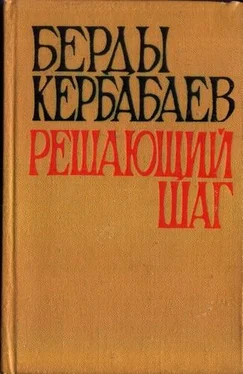






![Александр Михайловский - Война за Проливы. Решающий удар [СИ litres]](/books/385476/aleksandr-mihajlovskij-vojna-za-prolivy-reshayuchij-thumb.webp)