Роман открывается панорамной картиной рабочего митинга на окраине Риги. Уже на первых страницах возникает образ северного ветра, сквозным мотивом проходящий через всю книгу. Революция и ветер, встречный, злой, пронизывающий. Но он неспособен воспрепятствовать бурливому прибою толпы, наоборот, прибой весело вскипает, подгоняемый снежными вихрями. В этой картине А. Упит мастерски рисует вдохновенный подъем масс, когда каждый, кого захватывает революционная волна, чувствует себя живой каплей, которая вместе с другими несется и вздымается ввысь.
И совсем иначе мотив ветра звучит тогда, когда писатель обращается к лихой године кровавой, беспощадной расправы, последовавшей за всеобщим подъемом. Теперь это злая стихия, со свистом проносящаяся по голым, ничем не защищенным полям, сеющая уныние и безнадежность.
Основное содержание романа связано именно с временным отступлением, подавлением революции, когда по городам и весям Латвии свистели казацкие шашки и нагайки, каждого, кто участвовал в революционных событиях, преследовала пуля, ждал трибунал — суд скорый и неправый, когда сотни безвинных людей только по подозрению в симпатиях к революционерам томились в сырых погребах помещичьих имений.
Это время показано писателем в романе с беспощадной правдивостью. Рядом с беспредельным героизмом и преданностью соседствуют жестокость, предательство, отчаяние. А. Упит не льстит своему народу, наряду с мужеством Мартына Робежниека, с твердой убежденностью Гайлена, даже на суде бросающим вызов неправой власти, он выводит целую вереницу подхалимов, предателей, просто прихлебателей, помогающих карательным отрядам вершить беззакония.
В романе представлено все многообразие человеческих судеб и отношений, сложность, неоднозначность поведения людей в пору репрессий.
Упит создает целую галерею индивидуальных характеров, через которые, раскрывается эпоха. По-разному ведут себя не только латышские крестьяне, оказавшиеся жертвами разгула реакции. Самих карателей Упит изображает неоднозначно. По-звериному озлобленный отпрыск баронов Вольф, упивающийся собственной жестокостью фон Гаммер готовы жечь, уничтожать, убивать не задумываясь. Иные краски Упит находит для князя Туманова, который исправно несет свою службу, но «несколько глубже разобрался в истории здешних беспорядков, в их причинах и поэтому не может быть столь неумолимо суровым и безжалостным». И на этом фоне разыгрывается личная трагедия молодого офицера Павла Ивановича. Ему глубоко отвратителен кровавый разгул, в котором он вынужден участвовать, но он не может понять психологию народа, ставшего жертвой исторической несправедливости.
С глубокой душевной болью рисует Упит разорение и опустошение латышской земли после того, как над ней пронесся черный вихрь, и вопрошает: «Зазеленеет ли еще когда-нибудь долина, засветятся ли в вышине звезды тепло и мирно?.. Человек! Что ты делаешь со своей землей и небесами!»
Но как и все творчество А. Упита, «Северный ветер», несмотря на трагизм содержания, проникнут глубокой верой в глубинные живые силы народа, устремлен в будущее. Написанный вскоре после Октябрьской революции, он пронизан мыслью о неизбежности победы идей социализма.
После 1934 года, когда в Латвии был установлен авторитарный режим, Упиту пришлось отойти от активного участия в общественной жизни. Театры перестали ставить его пьесы. Он не мог больше печатать свои проникнутые идеями марксизма литературно-критические и публицистические статьи, участвовать в создании энциклопедического словаря, печататься как теоретик и историк литературы. Писатель вынужден был сузить диапазон своей деятельности, но интенсивность его литературного труда не снижалась. Он ищет возможность участвовать в жизни народа через новые для себя темы и жанры. Создается романная дилогия «Улыбающийся лист» (1937) и «Тайна сестры Гертруды» (1939), отразившая атмосферу духовного безвременья и социальной неустойчивости, в которой Упит создает своеобразный образ Ольгерта Курмиса — «лишнего» человека эпохи, одаренного, но безвольного полуинтеллигента, не могущего ни приспособиться к окружающей его среде, ни восстать против нее.
Писатель много переводит, и большим вкладом в культуру латышского народа стал изданный в 1936 году на латышском языке «Петр I» Алексея Толстого. Этот перевод послужил Упиту импульсом для художественного осмысления жизни латышского народа в эпоху петровских войн в романной тетралогии «На грани веков» (1937–1940).
Читать дальше
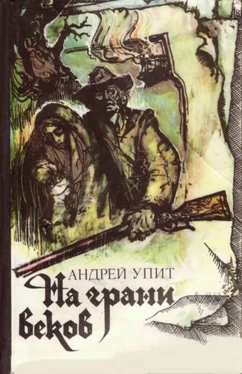

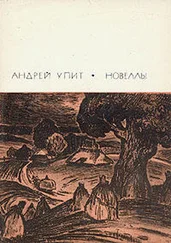
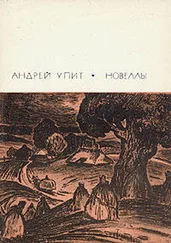
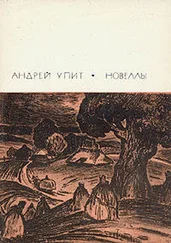
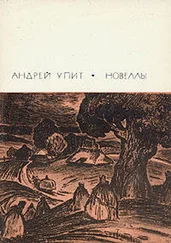
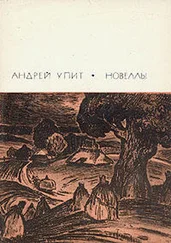
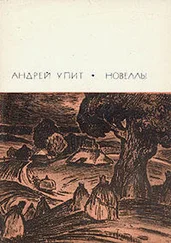
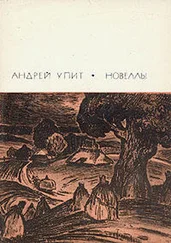
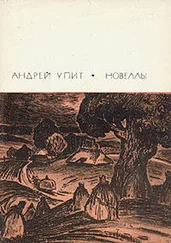
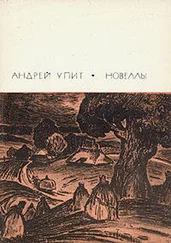
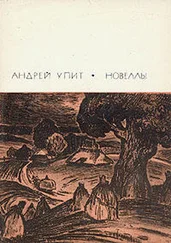
![Павел Иванов - Грани веков [СИ]](/books/393427/pavel-ivanov-grani-vekov-si-thumb.webp)