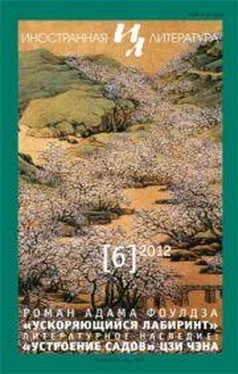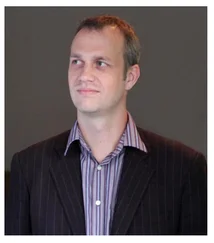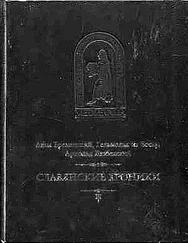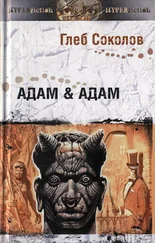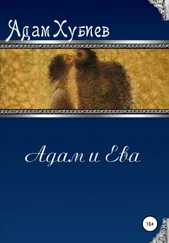Неужели это… Нет. Он промчался мимо человека, смутно показавшегося ему знакомым, и свернул в переулок, где располагалась Освальдова аптека. Вот среди бликов на стекле, за рядами пронумерованных склянок с пастилками и бутылочек с бесполезными микстурами Освальда, порочащими славное имя Алленов, мелькнула лысина брата. Мэтью вытер ладони о брюки, дернул за дверную ручку и вошел в аптеку под истерический звон колокольчика.
Освальд поднял взгляд и, наблюдая, как Мэтью пытается улыбнуться, глядя прямо ему в глаза, прочел в его братолюбивой, сердечной, свойской манере истинную цель его приезда. Он отвернулся и, поправляя склянки на прилавке, чтобы они стояли этикетками наружу, произнес:
— Мой знаменитый, почтенный брат… Но я не готов заклать упитанного тельца в честь твоего возвращения…
— Освальд!
— Я же не так давно тебя предупреждал.
— Прошу тебя, погоди.
— Ничем не могу тебе помочь.
— Нет, нет. На самом деле, я приехал с хорошими новостями…
— Ничем…
Мэтью стукнул кулаком по прилавку. Испугавшись шума, который он сам же и устроил, он уставился на свои начищенные до блеска ботинки.
— Но я проделал долгий путь…
— Ничем не могу тебе помочь.
— Ты упекаешь меня в тюрьму.
— Никуда я тебя не упекаю. Я просто ничем не могу тебе помочь.
Мэтью откинулся в кресле, раскрыв свой гроссбух, заполненный мнимыми числами. Его невидящий взор задержался на оррерии, стоявшем у окна. Нахлынуло чувство унижения, грязное и теплое, словно вода в ванне, в которую только что помочились. Но очертания оррерия, медленно проступавшие у него перед глазами, настроили его на философский лад. Эти маленькие шарики на концах осей, подвешенные в бескрайнем пространстве, в абсолютном безмолвии, и жизнь, насколько известно, есть лишь на одном из этих шариков, да и та не более чем пыль, налипшая на его поверхность, а главное — зачем? Он погрузился в глубокое, тихое уныние, задумался о том, как всю свою недолгую жизнь человек вертится, как неистовствует, прежде чем войти в это безмолвие, и на его губах появилась печальная улыбка. Ясно было, что уже совсем скоро его поглотит хаос, что наказание неминуемо, а потому он испытывал особое тихое удовольствие, сидя в одиночестве в своем кабинете: чернила в книге расходов еще не просохли, письмо засунуто обратно в конверт, надеяться больше не на что. И когда дверь кабинета распахнулась, Мэтью Аллен тотчас же вскочил.
— Как это понимать, я вас спрашиваю? — прокричал Альфред Теннисон. — Как это понимать?
— Вот уж не знаю, — ответил Мэтью Аллен. — Боюсь, вам придется объяснить мне, о чем речь.
— Объясню, не беспокойтесь! — Теннисон стоял, выпятив подбородок, склонив набок голову, запустив обе пятерни в шевелюру, и горящим взором глядел на доктора сверху вниз. Он еле сдерживался, гнев выбил его из колеи, нарушив обычный покой и наделив непривычной быстротой и свирепостью. Поэтому он заговорил со всей возможной внятностью, не переставая цепляться за волосы, чтобы не вспылить. — Я только что говорил с братом. И он сообщил мне с некоторой неохотой, за которой читался страх перед ненужными страданиями и беспокойством, что некоторое время тому назад вы просили у него денег, хотя мы вам с самого начала ясно дали понять, что Септимус не будет вкладывать деньги в ваш проект.
— Верно. Я действительно предлагал ему вложить некоторую сумму в наш проект в свете грядущего…
— Потому что вы на мели. Потому что ваша дурацкая машина так и не начала делать деньги. А я тем временем получаю письма от остальных членов семьи, где они тревожатся о процентах, которые вы давным-давно обещали выплатить. Между тем от вас не приходит ровным счетом ничего.
— Прошу вас, успокойтесь. Позвольте, я покажу вам счета. — Наконец-то настал их час, не зря он корпел над ними столько времени. Аллен взял в руки книгу расходов и шагнул навстречу разгневанному поэту. Тот схватил его за плечо и оттолкнул.
— Хватит болтать, этакого и черномазый бы не стерпел! Не хочу я смотреть на вашу цифирь. Нет уж, я хочу, чтобы были выплачены первые проценты. Я вам доверился. А вы нагрели мою семью на восемь тысяч фунтов и теперь клянчите у Септимуса еще тысячу. — Теннисон был очень силен. Аллен, ослабленный болезнью, мешком болтался у него на руке, а над ним, словно коршун, нависало большое, грязное, большеротое лицо. Страх сжал гениталии, что было даже по-своему приятно. Хотелось, чтобы этот взрыв гнева подмял его под себя, очистил, разрушил. — Мой отец умер, — продолжал Теннисон. — Деньги, которые мы вложили в вашу машину, были нашим наследством. А теперь, похоже, мы его теряем. Вы не первый месяц втираете нам очки и кормите обещаниями.
Читать дальше