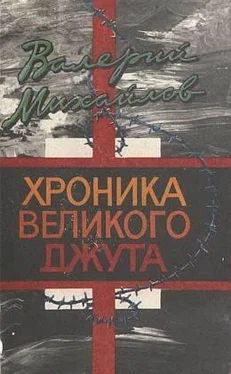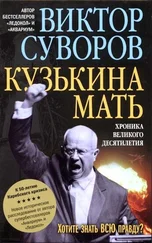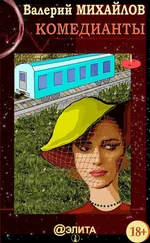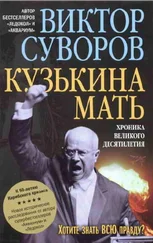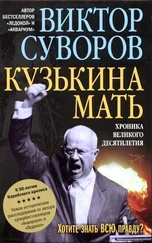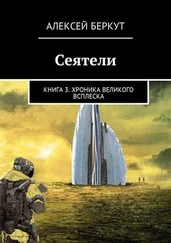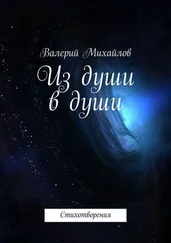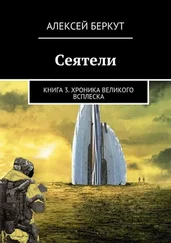В Кегенском районе от стада в миллион голов к концу коллективизации не сохранилось почти ничего.
«Гражданин Сарымбаев (Сарысуйский район) имел 4 души, 2 верблюда, 5 овец – получил на сдачу 80 овец и 4 коров. (Смех.)».
У железнодорожников Турксиба обобществляли скот, а затем передавали его мясозаготовителям. На станции Тюлькубас у работников отобрали всю домашнюю живность.
В Чубартауском районе в 1930 году было 473 тысячи голов скота, в 1933-м осталось 783 головы.
Из 330 тысяч голов скота к 1933 году в Павлодарском районе уцелело 30 тысяч. «В конце января 1932 года я увидел катастрофическое положение в аулах. Дал две телеграммы т. Голощекину: дело тяжелое, нужна помощь. Ответ: «Вы занимаетесь вопросами откочевок, а семфонды собирать не хотите?» (Розыбакиев).
В Кзыл-Ординском районе проводили (как и везде) форсированное оседание. Людей загоняли в такие «точки», где не было условий ни для развития земледелия, ни для животноводства. Летом там попросту нельзя было жить.
Чуйский район: народ, живший в радиусе 150 километров, стянули в одно место. Докладная: «В 1932 г. за три дня до посевной и во время посевной началось оседание. В место Джайсан (совершенно голое – никаких построек)… стягивали людей. Согнали в аулы подводы, а вместе с ними прислали милиционеров, которые выгоняли людей из юрт, усаживали на подводы и везли. Через четыре месяца все поголовно разбежались (половина ушла в соседнюю Киргизию)».
Жана-Аркинский, Кургальджинский и другие районы были «передовыми» в хлебозаготовках – в то самое время, когда сами «переживали большие продовольственные затруднения».
Тургайский район имел в 1931 году 100 тысяч голое скота, в 1933-м – не более 4 тысяч.
«Я написал несколько докладных записок в 1930-м и 1931 годах Исаеву и Голощекину о положении с коневодством. Не стали даже выслушивать. Голощекин сказал, что он лучше меня знает обо всем этом» (Шелыхманов, Казкрайвоенком).
Что ж, Филипп Исаевич утверждал, что переход от кочевья к оседлости невозможен без жертв, и считал необходимым условием этого сокращение поголовья скота. С важным видом произносил заведомые нелепости. Как же, теоретик! Безобразия тоже нуждаются в обосновании. И Голощекин формулировал, что главное, дескать, не количество скота, а продуктивность – «чтобы каждая голова дала больше мяса, больше жиров и шерсти». Он говорил это в то время, когда скот еженедельно падал от истощения десятками тысяч.
К 1933 году в некоторых колхозах оставалось по 4-5 лошадей. Живого тягла почти не было. На посевной взяли в ярмо последних коров. Готовили к жатве серпы и косы. Кое-где взрослых в аулах и деревнях не было, и работать приходилось подросткам.
«Чувство хозяина», которое теперь, спустя шестьдесят лет, безуспешно или же с весьма небольшим толком прививают, тогда-то и отшибли у хлеборобов и скотоводов: Стране Советов нужен был коллективизированный человек, попросту раб, не имеющий ничего.
Старик, агростароста колхоза «Гигант», непонятным образом уцелевший в этом смерче, написал прошение (его зачитали на пленуме):
«Я сочувствую севу, сочувствую прополочной кампании и паровой кампании, а партия этому тоже сочувствует, поэтому прошу меня записать в сочувствующие партии».
Выпрашивал возможность работать на земле…
Попутно на Шестом «историческом» пленуме раздавались и другие речи.
Тов. Крист (уполномоченный СНК, комитет заготовок) заявил:
«Когда мы начинали применять репрессии в прошлом году? Уже в конце кампании – хлеб к этому времени уже уходил (отсюда и недостаточность массовых репрессий).
Отличие новой хлебозаготовительной кампании… – при строгом сочетании организационно-массовой работы с законными методами государственного принуждения мы будем применять штрафы за невыполнение заданий по истечении первого же месяца хлебозаготовок».
Уже и отбирать-то было нечего, и народу в аулах и деревнях почти не осталось, а этот деятель все думал, как лучше наказывать и когда лучше проводить «законные» репрессии. «Положительным опытом» государственного принуждения делился…
Другой делегат пленума, Тулепов, «выходил с предложением»:
«В коммуне «Красный Восток» Энбекши-Казахского района коммунары поймали на полях единоличницу Есютину, которая срезала колосья. Женщину предали судебным органам. Но милиция ее освободила. Есютина дочь кулака, муж ее и братья расстреляны за участие в бандах. Мы имеем явного классового врага, который на деле подрывает наше колхозное производство. Мы не наносим достаточно решительного удара классовому врагу».
Читать дальше