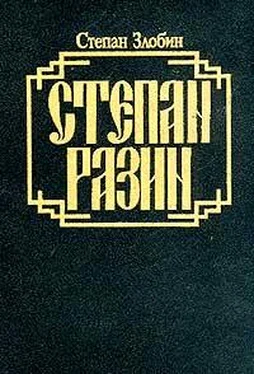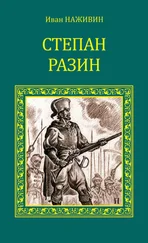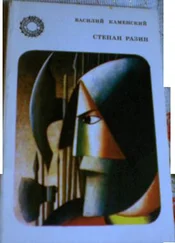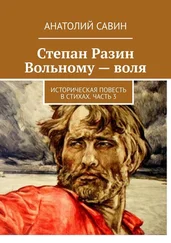Толпа окружила помост, не поняв, что творится.
Кто-то из есаулов окликнул еще из толпы охотников. Сразу вызвалось целых полсотни людей.
— Куды столь! Будет еще троих!
Весь помост завалили бумагой.
— Вали, вали выше! Куча мала! — задорили из толпы.
Напряженное ожидание казни, смертей, которое вместе с любопытством охватило толпу, когда Разин потребовал палачей, теперь сменилось веселым удивленьем.
Разин вышел опять на крыльцо. За ним вынесли воеводское кресло.
Вдохновленный победой, с горящим взором, но строгий, в черном кафтане, отделанном серебром, в запорожской шапке, с атаманским брусем в руках, Разин мгновенье стоял, ожидая, когда все увидят его и замолкнут. Говор смолк в один миг.
По донскому обычаю, при обращенье к народу Степан скинул шапку и поклонился.
Народ сорвал шапки с голов, бросил к небу.
— Здравствуй, батька, навеки! Отец наш родной!
— Слава батьке Степану!
— Слава!
— Ура! Ура-а-а!
Степан протянул руку. Народ умолк.
— Братцы казаки! Вольность казацкая с вами отныне! — сказал атаман.
Опять полетели вверх шапки, и крики прервали его слова:
— Спасибо тебе, Степан Тимофеевич!
— Батюшка родной, спасибо за волю!
— Слава!
— Казаки! — продолжал Степан. — Атаманы честные! Вот вся кабала ваша, муки, неправды — все тут. Пусть навеки огнем горят! Пусть и пепел их ветром развеет!
— Из пушки тем пеплом пальнуть!
— Из пушки пальнем, пусть развеет!
— Пушки наши, чего не пальнуть! — ответил Степан. — Зажигай, палачи! — приказал он, махнув рукой. Он надел свою шапку и сел.
Посадский «Петруха», успевший одеться, как подобало быть одетому палачу, в красной рубахе, зажег факел и с разных сторон поджег все бумаги.
— Помост погорит! — крикнул кто-то.
— Аль жалко тебе?!
— Пусть горит! — зашумели вокруг.
Пламя бежало по свиткам, по связкам листов, по книгам. Зажженные листы, как птицы, взвивались к небу, кружимые ветром, летали с огнем и сыпались пеплом на площадь.
Народ ликовал, глядя на то, как корчилась в пламени мучительная старая жизнь, вместе с боярщиной и со всеми ее обидами, как легким дымом вились и расплывались, будто и не были, тяжкие законы, как в вихре взвивались пеплом приговоры к плетям и к кнуту, изветы, из-за которых людям пришлось бы терпеть разорение, жестокие пытки и, может быть, казнь тут, на этом же месте, на плахе…
Деды и внуки несли на хребте закаменевший от времени горб. Его несли с покорной, унылой обреченностью. И каменный горб этот лопнул, рассыпался. От рождения скрюченные, люди вдруг ощутили в себе способность выпрямить спину, вздохнуть всей грудью, расправить плечи… Навсегда, навсегда, навеки сгорела неправда богатых и сильных. Самый воздух, вчера еще душный и пыльный, теперь, освеженный ночным ливнем, был как струя ключевой воды после долгой дороги в безводной пустыне.
Народ ничего не приписывал себе самому. Батька! Все — батька. Словно у батьки была тысяча рук, чтобы рушить стены, тысяча ног, чтобы в прах растоптать всякую силу, вставшую на пути.
Степан смотрел на пламя костра, на добровольных «палачей», которые длинными пиками подсовывали в огонь валившиеся из пылающей кучи свитки, глядел на всю эту радостную толпу, на праздничные лица…
Загорелся помост. Жар стал сильнее. Ближние к помосту люди отступили, пятясь от жара. Степан увидал перед самым помостом в толпе Сукнина. С каким-то потерянным выражением, почерневший и мрачный, Федор смотрел в огонь безразлично, погруженный в себя, будто его не касалась общая радость, даже, наоборот, было похоже на то, что он угнетен и убит общим праздником.
Выйдя на площадь и подойдя к костру, Федор и не взглянул на крыльцо Приказной палаты и не видал Степана, сидевшего тут в воеводском кресле.
— Федор Власыч! Эй, Федор! — громко окликнул Разин.
Сукнин оглянулся так, словно окрик вырвал его из какого-то оцепенения.
— Ну, что? Неужто же не нашел? — спросил атаман.
— Да вот она, Настя, — ответил Сукнин.
Услышав, что сам атаман говорит с есаулом, толпа расступилась, очистив дорогу к крыльцу.
Сукнин подошел вместе с Настей. В этой измученной женщине не узнать было прежней румяной, дородной казачки, не умолкавшей певуньи, пышущей весельем и силой. Прядка седых волос выбивалась из-под ее головной повязки на пожелтевшую щеку. В огромных глазах, обведенных будто углем, горели тоска и мука. Голос был хриплым, когда она глухо сказала:
— Тимофеич, родимый! Мишатку они доконали…
Читать дальше