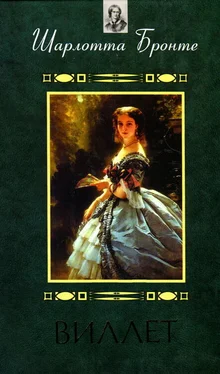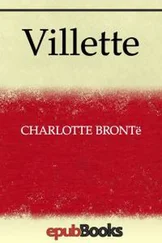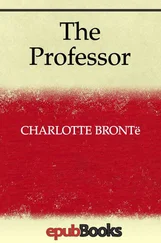Стул его коснулся моего стула; он тихонько протянул руку и повернул к себе мое лицо.
— Вы знаете Жюстин Мари? — повторил он.
Лучше бы ему не произносить этого имени. Я не могу описать, что сделалось со мной. Я пришла в страшное волненье, сердце мое замерло, мне вдруг вспомнились часы острых мучений, дни и ночи несказанной душевной боли. Вот он сидит так близко, он тесно связал свою жизнь с моей жизнью, мы породнились, сблизились с ним — и одна мысль о разлуке наших сердец приводила меня в отчаянье. Когда же он произнес имя Жюстин Мари, я не сдержала гнева, глаза и щеки у меня вспыхнули, я больше не могла молчать, и, думаю, любая повела бы себя так на моем месте.
— Я хочу вам кое-что рассказать, — начала я. — Я расскажу вам все.
— Говорите, Люси. Подите сюда и говорите. Кто еще ценит вас так, как я? Кто друг ваш ближе Эмануэля? Говорите!
Я заговорила. Я высказала ему все, слова теперь свободно и безудержно потекли с моих губ; я говорила и говорила. Я вернулась к той ночи в парке; я упомянула о сонном питье — о том, почему мне его дали, о неожиданном его воздействии, — как я лишилась покоя, покинула постель и устремилась за странной мечтой: на лоно уединенной летней ночи, на траву, под сень деревьев, к берегу глубокого прохладного пруда. Я рассказала о том, что на самом деле увидела: о толпе, о масках, музыке, о фонарях, огнях, и дальнем грохоте пушек, и перезвоне колоколов в вышине. Обо всем, что видела я тогда, я поведала ему, и обо всем, что услышала. И о том, как я вдруг заметила его в толпе, и как я стала слушать, и что я услышала, что из этого заключила; словом, доверила ему всю свою правдивую, точную, жгучую, горькую повесть.
Он же не останавливал меня, но просил продолжать; он подбадривал меня то улыбкой, то жестом, то словом. Я не успела еще закончить, а уже он взял обе мои руки в свои и пристально, испытующе заглянул мне в глаза. Его лицо не выражало стремления меня усмирить; он забыл про все свои наставления, забыл о том, что в известных случаях лучшим средством воздействия считал строгость. Я заслужила хорошую выволочку, но когда получаем мы по заслугам? Ко мне следовало бы отнестись сурово, взгляд же его выражал снисходительность. Я сама себе казалась неразумной и надменной, отказывая в приеме бедняжке Жюстин Мари; но его улыбка сияла восхищением. Я и не знала до сих пор, что могу быть такой ревнивой, высокомерной и несдержанной; но ему во мне все нравилось. Оказалось, что я полна пороков, а он уже полюбил меня такой, какая я есть. Мой мятежнейший порыв он встретил предложением самого глубокого мира.
— Люси, примите любовь мою. Разделите когда-нибудь со мной мою жизнь. Станьте моей самой дорогой, самой близкой.
Обратно к улице Фоссет мы брели в лунном свете — такая луна сияла, верно, в раю, освещая предвечный сад и прихотливо золотя тропу для благих шагов божества. Раз в жизни иным мужчинам и женщинам дано вернуться к радости родителя нашего и праматери, вкусить свежесть первой росы и того великого утра.
По дороге он рассказал мне, что всегда относился к Жюстин Мари как к дочери, что с согласия мосье Поля она несколько месяцев назад обручилась с Генрихом Миллером, молодым богатым купцом из немцев, и в этом году состоится их свадьба. Кое-кто из родни и близких мосье Поля, кажется, и точно, прочил ее за него самого, чтобы богатство осталось в семье; его же возмущал этот план и коробило от этой затеи.
Мы дошли до двери пансиона мадам Бек. Часы на башне собора Иоанна Крестителя пробили девять. В этот же самый час, в этом же доме полтора года назад склонился надо мной этот человек, заглянул мне в лицо и определил мою судьбу. И вот он снова склонился, посмотрел, решил. Но как переменился его взгляд и как переменился мой жребий!
Он понял, что мы рождены под одной звездой; он будто распростер надо мною ее лучи, как знамя. Когда-то, не зная его и не любя, я полагала его резким и странным; невысокий, угловатый, щуплый, он мне не нравился. Теперь же я поняла всю силу его привязанности, обаяние ума и доброту сердца, и он стал мне дороже всех на свете.
Мы расстались; он объяснился и теперь мог проститься со мной.
Мы расстались; наутро он уехал.

Нам не дано предсказывать будущее. Любовь не способен предвидеть даже оракул. У страха глаза велики. О годы разлуки! Как пугали они меня! Я не сомневалась в том, что они будут печальны. Я заранее рисовала себе пытки, какими они чреваты. Джаггернаут, [349] Джаггернаут — в индийской мифологии: божество, воплощающее неумолимый рок. — Прим. ред.
конечно, заготовил мрачный груз для неумолимой своей колесницы. Я чуяла ее приближение и — простертая в пыли жрица — с трепетом заранее слышала скрип безжалостных колес.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу