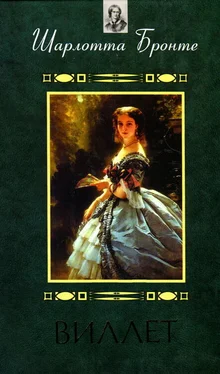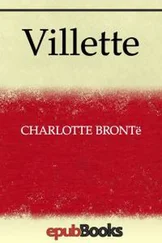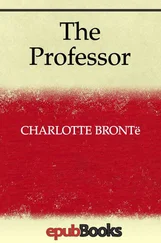Но какая боль телесная сравнится с мукой душевной? Знать, что он уехал не простясь, знать, что судьба и злые силы — завистливая женщина и священник-ханжа — не дали мне увидеть его на прощанье! И конечно, на следующий день к вечеру мне стало легче, и я так же неуемно, одиноко, отчаянно меряла шагами пустую комнату.
На сей раз мадам Бек уже не увещевала меня — она ко мне не явилась. Она послала вместо себя Джиневру Фэншо и не могла сделать выбор удачней. При первых же словах Джиневры: «Ну как голова, очень болит?» (ибо Джиневра, как и все прочие, считала, что у меня болит голова — нестерпимо болит и оттого я такая бледная и мечусь из угла в угол), — итак, при первых же ее словах мне захотелось бежать куда глаза глядят, только бы от нее подальше. Затем последовали ее жалобы на собственную головную боль — и они довершили успех предприятия.
Я побежала наверх и бросилась в постель — в жалкую свою постель, — одолеваемая горькими чувствами. Не пролежала я и пяти минут, как от мадам явилась новая посланница — Готон принесла мне какое-то питье. Меня мучила жажда, и я залпом выпила жидкость — она была сладкая, но я поняла, что в нее подсыпан сонный порошок.
— Мадам говорит, вы крепко заснете, — сказала Готон, принимая от меня пустую чашку.
Ах! Она решила меня усыпить. Порошок оказался сильный. Предполагалось, что на одну ночь я успокоюсь.
Зажгли ночник, все уснули, все вокруг стихло, и воцарился сон; он легко одолел тех, у кого не болели головы и сердца, — но миновал беспокойную.
Порошок подействовал. Уж не знаю, пересыпала или недосыпала его мадам; только подействовал он вовсе не так, как она хотела. Вместо оцепенения меня охватило лихорадочное беспокойство; на меня нахлынули мысли, странные, необычайные. Все существо мое напряглось, словно проснулось по сигналу побудки. Мечта ожила и властно, победно завладела мной. Презрительно окинув взором грубую Реальность, свою соперницу, Мечта повелела мне: «Вставай, лентяйка! Нынче ночью да будет моя воля!»
А потом она воскликнула: «Посмотри только, какая ночь!», и, отведя тяжелые ставни лишь ей одной присущим царственным движением руки, она показала мне полный месяц, плывущий по глубокому яркому небу.
Мрак, теснота и спертый воздух спальни вдруг показались мне непереносимыми. Мечта манила меня прочь из этой берлоги, на волю, в росистую прохладу.
Моему мысленному взору странным предстал полночный Виллет. Я увидела парк, летний парк, длинные, молчаливые, одинокие, укромные аллеи, а под сенью густых дерев — каменную чашу водоема; я знала его и часто стояла подле него, любуясь прозрачными прохладными струями и густым зеленым тростником по краям. Но что толку? Ворота парка закрыты, заперты, их охраняют, туда нельзя войти.
А вдруг можно? Тут стоило поразмыслить; ломая голову над этой задачей, я машинально принялась одеваться. И что оставалось мне делать, если сна у меня не было ни в одном глазу и я вся, с головы до ног, трепетала?
Ворота заперты, их охраняют часовые; но неужто же нельзя пробраться в парк?
На днях, проходя мимо, я, тогда не придав, впрочем, никакого значения своему наблюдению, заметила проем в частоколе, и теперь этот проем всплыл у меня в памяти — я отчетливо увидела тесный узкий проход, загороженный стволами лип, выстроившихся стройной колоннадой. В проход не мог бы пролезть ни мужчина, ни дородная женщина наподобие мадам Бек, но я, наверное, могла через него протиснуться; во всяком случае, следовало попробовать. Зато, если я одолею его, весь парк будет мой — ночной, подлунный парк!
Как сладко спали ученицы! Каким здоровым сном! Как мирно дышали! И во всем доме какая воцарилась тишина! Который теперь час? Мне вдруг понадобилось непременно это узнать. Внизу, в классе, стояли часы — отчего бы мне на них не взглянуть? При таком светлом месяце белый циферблат и черные цифры видны отчетливо.
Осуществлению моего плана не мог воспрепятствовать ни скрип дверных петель, ни стук задвижки. В жаркие июльские ночи не допускали духоты и дверей спальни не затворяли. Но выдадут ли меня половицы предательским стоном? Нет. Я знала, где отстает доска, и могла ее обойти! Дубовые ступеньки покряхтели под моими шагами, но чуть-чуть — и вот уже я внизу.
Двери классов все были заперты на засовы, зато коридор открыт. Классы представлялись моему воображению огромными мрачными застенками, упрятанными подальше от глаз людских. Казалось, призрачные, нестерпимые воспоминания томятся там взаперти, в оковах. Коридор весело бежал в вестибюль, а оттуда дверь открывалась прямо на улицу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу