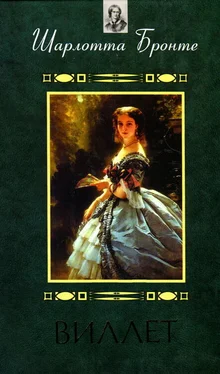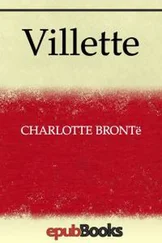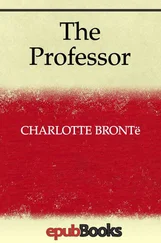Ответа не последовало, я продолжала бродить по классу; когда она преградила мне путь, я отстранила ее.
— Позвольте успокоить вас, мисс; дайте-ка я провожу вас в вашу комнату, — сказала она, стараясь придать своему голосу всю возможную мягкость.
— Нет, — отвечала я. — Ни вы, ни кто другой меня не успокоит и не проводит.
— Надо согреть вашу постель. Готон еще не легла. Она о вас позаботится, она даст вам снотворное.
— Мадам, — перебила я ее, — вы сластолюбивы. При всей вашей безмятежности, важности и спокойствии — вы сластолюбивы, как никто. Пусть вам самой греют постель, сами принимайте снотворное, ешьте и пейте всласть, на здоровье. Если что-то беспокоит и тревожит вас — да, я знаю, вас, конечно, кое-что тревожит, — принимайте пилюли и исцеляйтесь, а меня оставьте в покое. Слышите — оставьте меня в покое!
— Я пришлю кого-нибудь приглядеть за вами, мисс; я пришлю Готон.
— Не смейте! Оставьте меня в покое. Не трогайте меня! Какое вам дело до моей жизни, до моих печалей? О мадам! В вашей руке холод и яд. Вы отравляете и замораживаете одновременно.
— Что я вам сделала, мисс? Вы не можете выйти за Поля. Он не может жениться.
— Собака на сене! — воскликнула я.
Я-то знала, что втайне она хотела за него замуж, всегда хотела. Она называла его невыносимым, ханжою; она не любила его, но замуж за него она хотела, чтобы выжать из него все соки. Я проникла в тайну мадам, удивительно, но я проникла в нее — чутьем ли, озарением ли — сама не знаю. Прожив с ней рядом немало дней, я постепенно поняла к тому же, что враждовать она может только с низшим. Она враждовала со мной, хоть и тайно, прикрывая свои чувства ласковой личиной, и ни одна живая душа этого не знала, кроме нее самой и меня.
Две минуты я смотрела ей в лицо, понимая, что она совершенно в моей власти, ибо в подобных обстоятельствах, например когда ее видели насквозь, вот как теперь я, ее маскарадный костюм, маска и домино, обращался в совершенную ветошь, всю в дырах, и сквозь эти дыры обнаруживалось бессердечное, самовлюбленное и низкое существо. Она спокойно отступила; мягко и сдержанно, правда, сбивчиво, она сказала, что «если я никак не соглашаюсь лечь, ей придется меня оставить».
И с этими словами она без промедления удалилась, наверное, не меньше радуясь концу нашей беседы, нежели я сама.
То был у меня единственный честный, беспощадный разговор с мадам Бек; никогда более такое не повторилось. Ее обращение со мной после знаменательной ночной встречи нисколько не переменилось. Не было заметно, чтобы ненависть ее усилилась из-за моей горькой откровенности; не знаю, затаила ли она планы мести. Думаю, она укрепила себя рассуждениями о силе своего духа и почла за благо забыть то, что было неприятно вспоминать. Одно могу сказать с определенностью — на протяжении всей нашей совместной жизни мы не вспоминали о роковом столкновении.
Та ночь прошла. Всякой ночи, даже беззвездной ночи нашей кончины, суждено закончиться. Около шести, в час, когда дом просыпался, я вышла во двор и умылась холодной свежей водой из колодца. В зеркальце, вправленном в дубовую стену беседки, я увидела себя. Я изменилась за эту ночь — лицо и даже губы были у меня бледными, как у утопленницы, глаза смотрели мертво, а веки распухли и покраснели.
Все разглядывали меня — я решила, что тайна моего сердца разоблачилась; я решила, что выдала себя. Даже самая маленькая ученица, конечно, понимала, по ком я убиваюсь.
Изабелла — девочка, которую я когда-то выхаживала во время болезни, — подошла ко мне. Неужто и она вздумала смеяться надо мной?
— Que vous êtes pâle! Vous êtes donc bien malade, Mademoiselle! [319] Какая вы бледная! Вы совсем заболели, мадемуазель! ( фр.).
— произнесла она, держа пальчик во рту и глуповато глядя на меня с тоскливым недоумением, которое в ту минуту показалось мне прекрасней самой тонкой проницательности.
Изабелла не единственная была в полном неведении на мой счет; вскоре я с благодарностью поняла, что никто ничего не заметил. У большинства всегда находятся другие заботы, кроме чтения в чужих сердцах и разгадки недомолвок. При желании секрет сохранить легко. В течение дня я одно за другим получала доказательства тому, что не только никто не догадывается о причине моей печали, но и вся моя душевная жизнь последнего полугода осталась всецело моим достоянием. Никто не дознался, никто не заметил, как среди всех людей мне стал дорог один. Сплетни меня миновали; ничье любопытство не задело меня; оба этих чутких духа, порхая вокруг, меня попросту не замечали. Так иной будет жить в больнице, охваченной тифозной горячкой, и не подцепит заразу. Мосье Эмануэль наведывался то и дело, спрашивал обо мне; мы занимались вместе; когда бы он ни вызывал меня, я к нему спускалась. «Мисс Люси, вас зовет мосье Поль», «мисс Люси сейчас с мосье Полем» — без конца слышалось в доме, и никто на это не обращал внимания, и, уж разумеется, никто этого не осуждал. Ни намеков, ни шуток. Мадам Бек разгадала загадку, но более никто ею не занимался. Мои нынешние страдания окрестили головной болью, и я приняла это название.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу