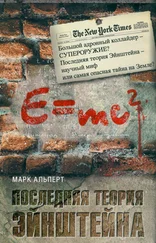Она не слушала болтовню Кирьянова, потому что думала вот о чем: что объединяет их троих, попивающих кофе с «Куантро» в душном, устланном коврами кабинетике? Они такие разные. Высокий, прилизанный на прямой белогвардейский пробор, чисто вымытый и отглаженный немногословный Бурнаков и обрюзгший, с лоснящимися патлами на затылке, болтливый Кирьянов, и разве можно догадаться, глядя на нее, причесанную у Барбье, одетую в костюм из «Сакса», что прическу соорудила сама дома, подручными средствами, а серый приталенный костюм из шелковой чесучи «от Молинэ» достался в подарок от Ольги Баклановой, а Оле, уезжая в Париж, подарила его Катя Боннэ, урожденная Бобрикова. У Детки уже давно нет хороших заказов, и она еле-еле сводит концы с концами, если бы не Глэдис с ее деликатной помощью, вообще бы загнулись. Кирьянов не постеснялся сказать, что не может содержать жену, Бурнаков вообще загадка: отец — академик, живет в СССР, а он здесь попивает «Куантро» и устилает полы драгоценными коврами на заработок скромного обозревателя скромной газеты. Вот это и объединяет — жизнь на фу-фу…
— …Кивезеттеры, был такой недоучившийся студент, карбонарий, пиф-паф…
— Простите, Дмитрий, вы знакомы с кем-то из Кивезеттеров?
— Ну да! Я же говорил, что познакомился с ней в Ленинграде, тоже переводчица, но и физтех закончила, а тут сидим в «Куполь» и — ба! Кого я вижу! Мадемуазель Кивезеттер превратилась в мадам Майер!
— Как она выглядит?
— Ну, такая невысокая, ладненькая, уверенная в себе, говорит за него, а он смотрит влюбленными глазами.
— Как ее имя?
— Елизавета. Елизавета Николавна.
— Лизанька. Это наверняка Лизанька.
— Вы ее знаете? — Бурнаков глянул остро.
— Когда-то знала в той, другой жизни, она была строгой умненькой девочкой, моя матушка и ее мать — гимназические подруги, а жила она в семье…
— А что с ее матерью?
— Умерла. Это очень печальная история. Она приехала в Сарапул году в двенадцатом, нет, кажется, в десятом, ее муж…
— Вам бы хотелось, наверное, увидеть ее?
— Конечно, ведь мы почти что родственники, больше, чем родственники, моя мама и Лика Ижболдина…
— Были гимназическими подругами.
— Они были, скорее, сестры, мама закрыла глаза Лике… Ах, Боже, как бы я хотела увидеть Лизаньку!
— Так поезжайте, Дмитрий даст вам адрес…
— Легко сказать — «поезжайте». У нас сейчас нет возможности путешествовать через океан.
— Ну сейчас нет, потом будет, жизнь — ведь она полосатая.
— Надеюсь. Но хотя бы написать ей — и то радость.
— Не прибедняйтесь, будут у вас заказы, все будет.
Как быстро соображал Сергей Николаевич, как далеко умел смотреть!
Почему-то уверена, что предложение изваять бюст Генриха было с его подачи. Позвонил Кирьянов, напросился в гости, привел трепещущую от волнения и восторга Мадо, потом заявилась Элеонора, объявила, что работу оплатит Институт высших исследований, и назвала баснословную цену. Но великий натурщик был все время занят, надо было ждать, и все же Детка воспрял, прекратил целыми днями читать Библию и снова стал ходить в Центральный парк в поисках корней и сухих деревьев. Ему повезло: однажды притащил поваленное ураганом дерево молодой магнолии, часами смотрел на него, бормоча что-то под нос и напевая, и вдруг попросил ее позировать, как в былые времена. Она упиралась: не девочка уже, чтобы обнаженной.
— Галифе ты себе, конечно, немного отрастила, но все остальное еще очень даже ничего. В общем, рожь да пшеница годом родится, а добрый человек всегда пригодится. Тряхни стариной!
«Магнолия» вышла диво как хороша, хотя и не приукрасил — оставил «галифе». И как он угадал в безжизненном сухом дереве эти плавные линии рук, эту упругую и одновременно податливую плоть, эти словно вздымаемые невидимым ветром то ли детали покрывала, то ли ветви? Это был прежний Детка, а ей уж начало казаться, что кроме заумных мистических чертежей пирамид и космоса, над которыми он просиживал ночами, муж ни на что не способен.
И когда наконец появился великий натурщик, она видела, как он украдкой восхищенно пялился на «Магнолию».
А Кирьянов исчез, растворился в золотой дымке Нью-Йорка, в нагромождении нелепых и прекрасных в своей нелепости башен, в тусклом электрическом свете бесконечных тоннелей, в грязи и блеске улиц, в летней духоте Вашингтон-сквера, а может, в мрачной осенней унылости Шестьдесят первой, где стояло уродливое четырехэтажное здание — советское консульство.
Читать дальше