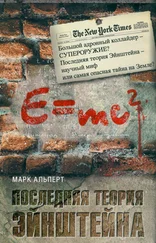Когда возвращались на Пресню с Красной площади, он, и обласканный, и довольный своей работой, вдруг сказал, фыркнув, как конь: «Надо же! Ты слышала, что он сказал? Какая-то абракадабра. Мол, „на долю павших товарищей досталось великое счастье победы… Великая почесть… по вашим телам пошли дальше“. Нет, это даже не абракадабра, это что-то людоедское».
Одиночество — это когда вздрагиваешь от телефонного звонка, так непривычен этот звук…
Одиночество — это когда бесконечно говорят, говорят, как Нинка сейчас. Ее последняя подруга. Последняя еще живая. Когда-то была хороша необычайно, и умна, и хитра, а сейчас — просто болтливая старуха. С Нинкой прошла вся жизнь здесь после возвращения из Америки. Поселили сначала в гостинице «Москва», назначили хорошее содержание, но вокруг пустота. Как от прокаженных, коллеги старались держаться подальше. Боялись и ненавидели. Наденька Пешкова поначалу прибегала, но после того, как она сказала ей по телефону: «Я бы к тебе пришла, но здесь у вас такая грязь на улицах», Наденька бросила трубку, не попрощавшись, и перестала звонить и прибегать. Объявилась, когда Детка получил и премии, и высокие звания. Она не сердилась на Наденьку, к тому времени она уже поняла правила и законы жизни на своей «старой, огрубевшей родине». Именно так написал Генрих в письме: «Старой, огрубевшей», откуда мог знать? Он знал все: и то, чего другие не могли знать, и то, чего не хотели. Надо перепрятать его письма, забрать из секретера и положить в щель между изголовьем и матрасом, тогда никто, даже Олимпиада не доберется до них.
Встала, грузная, в несвежей ночной сорочке, подошла к окну. Заметенный снегом двор, груда безобразных деревянных ящиков у люка, закрытого обитыми жестью ставнями, в этих ящиках привозят ненавистную бильдюгу и нотатению, ими Олимпиада кормит ее. Нинка все собиралась прийти устроить Олимпиаде разнос, выгнать ее наконец, обещала найти другую помощницу, но то ли забыла, то ли пороху не хватает, а может, уже дотащиться не может. Она теперь живет на Ломоносовском, а раньше они с Ванечкой круглый год жили на шикарной даче в Барвихе. Нинку это устраивало, потому что она приезжала только на субботу и воскресенье, крутила романы, а с Ванечкой поселила какую-то замшелую тетку. Нет, одно время на даче жила Ванечкина мать — маленькая деревенская старушка. К столу ее не приглашали, а летом она сидела где-нибудь в углу огромного участка. Сидела почему-то на корточках, одна. Все было понятно. Ванечка очень любил Нинку. Был он талантливым, смелым, на войну пошел добровольцем, но вот перед Нинкой гнулся. Когда мать умерла, он на похоронах рыдал над могилой даже как-то по-женски, не стесняясь, давясь слезами. Она сказала: «Не ожидала, что Ванечка может вот так… убиваться», а Детка отрезал: «Значит, знает, отчего так горько и… тошно». Детка Нинку недолюбливал и даже подозревал в особом, специальном интересе к их жизни, впрочем, подозревал не ее одну, а она всегда помнила, что Нинка с Ванечкой были единственными близкими людьми, остальные не могли простить, будто бы за то, что в лихие и тяжелые годы они ОТСИЖИВАЛИСЬ в Америке, а на самом деле — завидовали, сначала тому, что отсиживались, потом мастерской, потом наградам и премиям Детки. Нинке было не до зависти, она жила своей бурной жизнью, а Ванечке это низкое чувство вообще было незнакомо: он жил холстами, красками, пленэром, мазком, колоритом. Художник какой-то былинной мощи, это их с Деткой и сближало. Хотя один раз из-за них чуть не поссорились.
Нинка стала подозревать замшелую тетку в воровстве и позвала на дачу поприсутствовать при досмотре теткиного чемодана. Тетка на выходные отъехала. Гретхен было противно, но она хорошо помнила слова Достоевского, что дружба существует для излияния помоев, и считала слова эти справедливыми.
Было это в начале пятидесятых. Нинка досмотрела нищенское имущество тетки, ничего своего не нашла, Ванечка что-то пробурчал невнятное и пошел прочь из каморки наверх, в свою мастерскую, работать, они с Нинкой выпили кофе, Нинка села за руль лоснящегося ЗИМа, и они поехали в Москву, где ждала их посылочница Клара с тряпками, доставленными из Риги.
«Разве такими были мои подруги там? — думала она, глядя на красоты Рублевского шоссе. — И что бы подумали обо мне Глэдис, Криста или сотрудницы комитета, которые всегда смотрели на меня с обожанием?»
Нинка, небрежно положив руки на руль, увлеченно рассказывала, как надо ухаживать за лицом, чтоб сохранить красоту и молодость: например, очень полезно смазывать кожу утренней мочой. «Господи, какая гадость!» — Она поморщилась, но Нинка не заметила, и она, чтобы не слышать Нинку, стала вспоминать своих первых подруг в Нью-Йорке. Это были удивительные женщины, красавицы, труженицы. Таня Яковлева, пока не вышла замуж за виконта Дюплесси, работала продавщицей в шляпном отделе магазина «Сакс», княгиня Софья Мегалашвили тоже одно время работала продавщицей. Люда Федосеева… нет, она сразу стала манекенщицей. Париж сходил по ней с ума, а в Нью-Йорке… даже Генрих, уже по уши влюбленный в нее, увидев Люду, начал суетиться вокруг, флиртовал он всегда очень смешно, как-то дергался, семенил, в общем страшно напоминал героев Чарли Чаплина. Один раз она сказала ему об этом, и они долго хохотали, а потом он, подражая Чаплину, исполнил для нее чаплиновский номер с бритьем под Венгерский танец Брамса. Изобразил очень талантливо, они были одни в ванной в Кингстоне, но хохотали на весь дом, у Мадо за завтраком и без того узкие губы вообще словно изчезли, такую осуждающую гримасу скроила она. Эстер, как всегда, была непроницаема.
Читать дальше