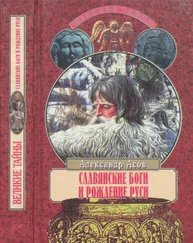Андреа Маффеи заговорил о новой опере. Он говорил о музыке, говорил о поэзии. Речь его лилась легко. Он недаром пользовался репутацией блестящего салонного оратора. Сегодня он чувствовал себя в ударе. Неглубокие, но изящные мысли, изысканные, грациозные обороты рождались сами собой. Ему нужна была аудитория, чуткая, легко воспламеняющаяся — внимание ласковых растроганных женщин. Он с сожалением взглянул на Клару. Она была настоящим ребенком — наивным и вместе с тем слишком серьезным. Андреа чувствовал себя виноватым перед ней. Но помочь ей ничем не мог. Дело было непоправимым. Лучше было не думать об этом. Зачем мучить себя бесполезной жалостью и запоздалым раскаянием? Андреа Маффеи был эпикурейцем. Он направился в ложу к графине Вимеркати.
Клара не заметила, как вышел муж. Она, не отрываясь, смотрела на сцену. В гладком розовом платье, тонкая и побледневшая, она казалась испуганной девочкой.
У графини Вимеркати было шумно. Знатоки и любители обсуждали первое действие оперы. Дон Джованни Балабио формулировал свои мысли точно и обстоятельно. По его мнению, композитор злоупотребляет звучностью медных инструментов.
— Впрочем, — при этом дон Балабио мечтательно закатил глаза, — старая венецианская школа отличалась таким же пристрастием. Вспомним хотя бы хор всадников в опере Кавалли «Пелей и Фетида».
Но никто из присутствующих не знал хора всадников из оперы Кавалли «Пелей и Фетида», и дон Джованни умолк. Он чувствовал себя одиноким и обиженным. Он шевелил губами, точно прикладывал их к отверстию воображаемой флейты.
Граф Кастельбарко спорил с Джульеттой Пецци. Он доказывал ей, что Верди слепо подражает Беллини в манере строить кантилену. В устах страстного поклонника беллиниевской музы это утверждение звучало как похвала. Но Джульетта Пецци не соглашалась с доводами просвещенного теоретика. У нее были свои, ей одной известные мысли по поводу музыки Верди. И эти мысли заставляли ее лукаво улыбаться в ответ на рассуждения графа Кастельбарко.
— Добрый вечер! — воскликнула она громко, увидя входящего Андреа Маффеи. — Я в восторге от этой музыки. В ней есть жизнь, самая настоящая, самая подлинная жизнь. Слушая ее, я чувствую себя среди живых людей, а не среди бутафорских богов и карнавальных чучел. Я покидаю туманные выси надоевших картонных Олимпов и с радостью ступаю на землю. — Она смотрела на Андреа в упор и говорила вызывающе. — На цветущую землю моей освобожденной родины.
Андреа Маффеи любовался Джульеттой Пецци. Он смотрел на ее золотисто-огненные волосы, на ее полные белые плечи, на красные маки, приколотые к ее корсажу. Он считал себя патриотом не хуже других. Но стоял за мирное сожительство с иноземными хозяевами. У него были приятели среди австрийских офицеров. Он охотно принимал бы их у себя, если бы не Клара. При первом намеке на эту возможность кроткая голубка превратилась в тигрицу. «Только через мой труп, — сказала она тогда. — Только через мой труп сможет австрийский офицер войти в дом, где я хозяйка!»
Андреа осуждал подобную нетерпимость. Нелепо так усложнять жизнь. Но он не спорил с женщинами. От этого правила он не отступал никогда. Никаких споров с женщинами! Ни с собственной женой, ни с другими. И особенно с такими, как Джульетта Пецци. За такими он предпочитал ухаживать.
— Вы сегодня точь-в-точь вакханка Тициана, — сказал он.
Джульетта смеялась.
— Не доверяйте своему впечатлению, — сказала она. — Присмотритесь внимательно. У меня нет ни тирса, ни виноградных листьев. Неужели вы приняли букет красных маков за гроздья винограда? — Джульетта смеялась, глядя на Андреа в упор. — О, язычник! Неисправимый язычник! Запомните раз и навсегда. Бога Вакха больше нет. Вакханки бежали, куда — не знаю, может быть, на другую, более молодую и счастливую планету. У нас другая религия. Мы стали старше и несчастней. И теперь мы превращаем вино в кровь. Это не всегда заметно, так как вино и кровь одного цвета. Думали ли вы об этом, беспечный еретик? — Джульетта говорила загадками. Андреа не было никакого дела до тайного смысла ее слов. Это его не интересовало — пустая женская болтовня! Важнее было другое: Джульетта смеялась и смех ее был чарующим.
— Но мы говорим о пустяках, — сказала поэтесса, — а я до сих пор не знаю вашего мнения об опере, — Она перестала смеяться. Лицо ее стало неожиданно серьезным, даже строгим.
Тогда Андреа Маффеи заговорил об опере Верди. Он смотрел на алые цветы, расцветшие так пышно на груди Джульетты Пецци. Он не мог оторвать глаз от этих алых цветов. Они казались ему пылающим костром. Они казались ему вызовом. И он говорил о музыке, говорил о поэзии. Речь его лилась легко. Он был в ударе.
Читать дальше
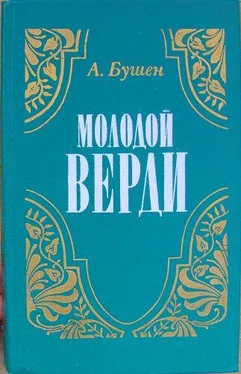



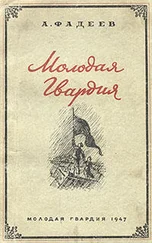

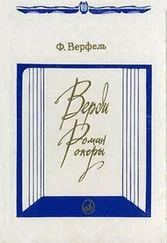
![Александр Дроздов - Эликсир. Новое рождение [СИ]](/books/415167/aleksandr-drozdov-eliksir-novoe-rozhdenie-si-thumb.webp)