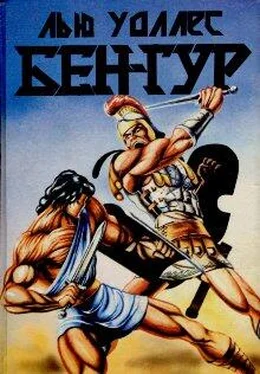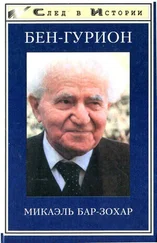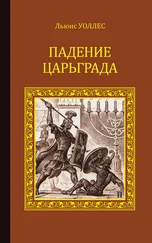— Думаю, сейчас ты сможешь слушать хотя бы потому, что это касается тебя. Я хотел бы помочь тебе, о прекрасный, как Ганимед; помочь, по-настоящему желая добра. Я люблю тебя. Я говорил, что собираюсь стать солдатом. Почему тебе не заняться тем же? Почему не выйти за пределы круга?
Они были уже у ворот. Иуда остановился и мягко снял руку со своего плеча, в глазах его дрожали слезы.
— Я понимаю тебя, потому что ты — римлянин, а ты не понимаешь меня, потому что я израильтянин. Ты причинил мне боль сегодня, показав, что мы не можем быть друзьями, какими были раньше — никогда! Теперь мы расстаемся. Да пребудет с тобой мир Бога моих отцов!
Мессала протянул руку, еврей вышел из ворот. Когда он скрылся, римлянин помолчал, затем тоже прошел в ворота, говоря самому себе:
— Да будет так! Эрос мертв, Марс на царстве!
И он вскинул голову.
Вскоре после того, как юный еврей расстался с римлянином у дворца на площади Рынка, он остановился перед воротами двухэтажного здания крепостного типа и постучал. В створке открылась небольшая дверь. Он торопливо вошел, не обратив внимания на почтительный поклон привратника.
Принявший его проход имел вид узкого тоннеля с облицованными стенами и неровным потолком. По обеим его сторонам находились отполированные долгим употреблением каменные скамьи. Пройдя двенадцать-пятнадцать шагов, наш знакомый очутился в вытянутом с севера на юг внутреннем дворике, с трех сторон ограниченном фасадами двухэтажных домов. Слуги, снующие по террасам второго этажа, звук мельничных жерновов, белье на веревках, цыплята и голуби на земле, козы, коровы, ослы и лошади в открытых стойлах, массивная колода с водой — все говорило о том, что это — хозяйственный двор. На востоке он упирался в стену с проходом, абсолютно идентичным описанному выше.
Второй проход привел молодого человека в просторный, квадратный двор, усаженный кустами и виноградом, свежими, благодаря воде из поднятого на уровень второго этажа бассейна. Между рядами высоких колонн, поддерживающих террасу висели полосатые, красно-белые пологи. На террасу вела лестница в южной части двора, другая лестница поднималась с террасы на крышу, край которой по всему периметру ограждал лепной карниз и облицованный шестигранной черепицей парапет. Повсюду здесь в глаза бросалась самая скрупулезная аккуратность, не допускающая ни пыли в углах, ни даже желтого листка в кустарнике, что, не менее прочего, вносило вклад в прекрасный общий эффект, и стоило гостю вдохнуть здешний чистый воздух, как он, еще не будучи представлен хозяевам, знал уже, что семья принадлежит к самым изысканным.
Парнишка поднялся на террасу, прошел под натянутым над ней тентом к дверному проему на северной стороне и шагнул в комнату, которая, когда за ним закрылся полог, снова погрузилась в темноту. Он, однако, уверенно направился к дивану и бросился лицом вниз, положив лоб на скрещенные руки.
Ближе к ночи к дверям подошла женщина и окликнула его. Иуда отозвался, и она вошла.
— Ужин закончился, и уже ночь. Мой сын не голоден? — спросила она.
— Нет.
— Ты болен?
— Я хочу спать.
— Мать спрашивала о тебе.
— Где она?
— В летнем доме на крыше.
Он встрепенулся и сел.
— Ладно. Принеси мне поесть.
— Чего ты хочешь?
— На твое усмотрение, Амра. Я не болен, но мне все безразлично. Жизнь не кажется такой приятной, какой была с утра. Вот такая новая хворь, моя Амра, а ты так хорошо меня знаешь, что сумеешь придумать что-нибудь, что послужит не только едой, но и лекарством.
Вопросы Амры и голос, которым они были заданы, — тихий, сочувствующий и встревоженный — свидетельствовали о близких отношениях Она положила руку на лоб мальчика и, удовлетворенная, вышла, сказав:
— Посмотрю что-нибудь.
Вскоре она вернулась, неся на деревянном подносе кувшин молока, несколько тонких лепешек белого хлеба, паштет из толченой пшеницы, жареную птицу, мед и соль. На одном конце подноса стоял кубок с вином, на другом — зажженный бронзовый светильник.
Теперь мы можем разглядеть женщину. Подвинув к дивану табурет, она поставила на него поднос и опустилась на колени, готовая прислуживать. Пятидесятилетнее лицо, темнокожее и темноглазое, в эту минугу смягчалось выражением почти материнской нежности. Белый тюрбан оставлял открытыми мочки ушей и навсегда запечатленный в них знак ее положения: дыры пробитые толстым шилом. Она была рабыней египетского происхождения, для которой даже священный пятидесятый год не принесет свободу, которую, впрочем, она бы и не приняла, потому что мальчик стал частью ее жизни. Она нянчила его младенцем, баловала ребенком и не могла прервать службу. Для ее любви он никогда не станет взрослым.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу