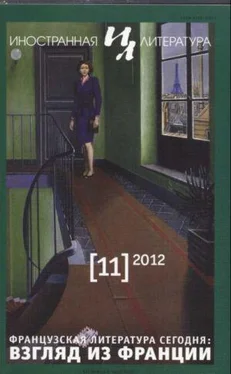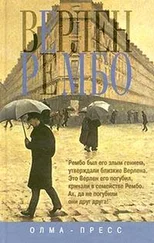Впрочем, вы не стали бы говорить о Седане: ведь вы сидите в этой классной комнате за три или шесть месяцев до Седана, до того, как Седан вошел в историю, врезался в нее, словно сжатый кулак, — а тогда он еще был просто одним из гарнизонов в Арденнах; вы заговорили бы о Сольферино или Севастополе, или о любой другой массовой бойне, лишь бы дать понять: зло — где-то снаружи, не в Малербе, а в Луи-Наполеоне, не в языке, а в преступных деяниях, особенно явных и неопровержимых в данный момент, когда фея Карабос пляшет на трупах убитых солдат, окруженная вороньем, как настоящая богиня войны; лишь бы согласиться с Изамбаром в том, что злые феи скрыты в нарукавной повязке и в кепи, а поэзия — это, конечно же, добрая фея. Тут Изамбар, перестав волноваться — не за поэзию, а за вас, — проводил бы вас до двери и попрощался бы с любезностью, подобающей выпускнику Эколь нормаль, например, произнес бы какую-нибудь остроумную латинскую фразу; а вы бы ответили другой остроумной латинской фразой и попрощались с величайшим почтением; ибо Изамбар был одним из тех, на ком держится мир, тех, для кого зло — это нечто постороннее, даже если оно близко, оно всегда вне нас, для кого зло хоть и вездесуще, но поддается исправлению; одним из тех людей старой закалки, которые сражаются за победу добра, считая себя его носителями: поскольку в свои двадцать два года он думал, что фея Карабос (сейчас я имею в виду Витали Кюиф) — особа, совершенно несовместимая с поэзией, помеха для поэзии, что она слишком обременена прозой и потому представляет опасность для свободной поэзии своего сына, он помог Артюру избавиться от нее; тем самым он сделал великое дело для будущего французской поэзии (если считать, что этот старый соловей еще жив) — правда, не совсем так, как он задумывал: ибо, как часто случается, мать, потерявшая привязанность сына, отвергнутая, осмеянная, изгнанная и лишенная всех прав, — эта мать исчезла из круга видимых существ и навсегда укрылась в сыне, подобрала обеими руками свои старые юбки и вся целиком запрыгнула в него, в темное и наглухо закрытое пространство внутри нашего «я», где, как утверждают, мы действуем, но не осознаем наших действий; там она встретилась с Капитаном, который уже давно переехал туда со своим кивером и саблей; но шуму она там наделала куда больше, чем Капитан. Да, такое часто случается; но на сей раз (такое случается гораздо реже) сыном оказался Артюр Рембо, чьи достойные внимания действия ограничивались написанием прекрасных стихов; и это ее страшными пальцами, о которых я упоминал (но теперь они делали свое дело внутри сына, впившись в сына, сокрывшись в нем), были выпрядены самые лучшие стихи, двустишия со смежными рифмами: да, мы вправе думать, что где-то около 1872 года древний александрийский стих чудесным образом был вознесен к новым высотам, а затем безвозвратно уничтожен одной злобной женщиной, которая скреблась, стучалась и неистовствовала внутри своего ребенка.
Возможно, Изамбар все же смутно предвидел такой исход, хотя это выходило за рамки его полномочий. Может быть, год спустя, когда Рембо посмеялся над Изамбаром и тоже выбросил его из своей жизни, снес на толкучку книги доброго учителя, а его самого загнал во внутреннее пространство, он догадался, что поэзия — это зло ; и что стихи писала та старая карга, с которой, как ему казалось, он расправился и которая должна была теперь расправиться с ним самим; он ведь не мог не учуять это, хоть и не смел признаться самому себе, что учуял; наверно, именно поэтому, зная истину, но отвергая это знание, поэт Изамбар вечно занимался переливанием из пустого в порожнее. Мы можем покинуть классную комнату, наденьте цилиндр, дети смотрят на вас: они снимают маленькие кивера артиллеристов, когда вы проходите мимо под сенью каштанов, они принимают вас за инспектора, возможно, один из них смотрит хмуро, задирает нос и остается в своем низко надвинутом кепи. Ничего нет прекраснее майских каштанов над его головой. Изамбар останавливается в дверях, в классной комнате за его спиной уже темно, он вглядывается в вечерние сумерки, и вы, уходящий в эти сумерки, становитесь их частью. Он что-то бормочет по-латыни. Вы не обернулись — то, что вы ищете, выходит за рамки полномочий Изамбара.
III
Также это выходило за рамки полномочий Банвиля
Также это выходило за рамки полномочий Банвиля.
Банвиль появляется в нашей истории, сразу после Изамбара, поскольку мы знаем, что юноша послал ему через издателя Лемера стихи, в которые вложил все свое сердце; вероятно, это были первые стихи, которые, по его мнению, можно было показать известному поэту. Ему уже было недостаточно триумфов при раздаче школьных наград; они сделали свое дело, взрастили в его гневном сердце неутолимое честолюбие в то самое время, когда там рождалось загадочное свойство — предрасположенность или потребность, либо Божественное откровение (а может, и то, и другое, и третье), которое тогда называли гениальностью, та словно бы сверхъестественная особенность человека, которая никак не проявляется зримо — ни в виде нимба над головой, ни в виде телесной мощи, красоты либо чарующей молодости, но ощущается в ничтожных мелочах и показатель которой — абсолютное совершенство небольших сочинений на закодированном языке, написанных черным по белому. Мы знаем, что эти сочинения сами по себе, как правило, незначительны. Читая их, мы не можем с уверенностью сказать, действительно ли они совершенны, или нам это внушили в детстве, а мы теперь внушаем нашим детям, и так до бесконечности; а тот, кто их написал, знает об этом не больше, а может быть, даже меньше нашего, он что-то знает только в тот момент, когда сцепляет карнизы, и они, идеально пригнанные друг к другу, как стержень и паз, радостно смыкаются с сухим щелчком, похожим на торжествующий щелк челюстей, — и дело сделано; но, когда дело сделано, поэт снова в страхе, ведь он оказался зажат этими челюстями, карниз бросил его на произвол судьбы, и он больше не может писать, даже если он, как маршал Гюго, всю жизнь играючи управлялся с карнизами, даже если этими ликующими акульими челюстями был он сам и даже если он сам был стихом . Итак, сидя у себя за письменным столом, он трясется, как овечий хвост, однако, оказавшись на людях, желает, чтобы окружающие видели у него над головой нечто вроде нимба и говорили ему об этом, ибо ему самому нимб не виден. И, возвращаясь к гению Рембо и к откровенному, неистовому честолюбию, засевшему в арденнской глуши, в сердитом человечке, который вместе с тем был сама любовь, — ибо тут все сложно и запутанно, как в древнем богословии, — возвращаясь к нему, являющему собой символ этого противоречия, этого запутанного, тугого узла, — мы вынуждены констатировать, что не знаем, честолюбие ли предшествует гению, дает ему первоначальный импульс и посредством упорной работы реализует его, или же, напротив, гений, чудом расправивший крылья, замечает, что крылья отбрасывают тень, что этот мираж притягивает людей, и тогда он, впавший в зависимость от своих призрачных крыльев, он, отбрасывающий тень, в какой-то момент, возомнив о себе, желает возвыситься — и губит себя.
Читать дальше