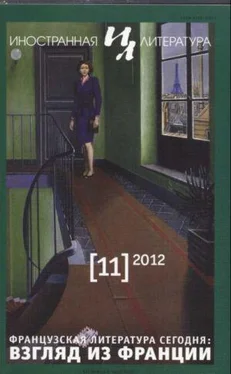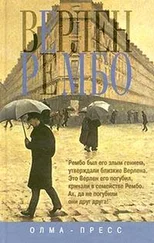— В этой книге больше, чем в других моих книгах, присутствует рефлексия о преемственности, о том, что мы понимаем под главным, изначальным, произведением. Это не связано с действием Святого Духа; дело не только в том, что сам текст вульгаты великолепен, но в том, что он был признан таковым первыми поколениями и был отправлен потомкам, как письмо по почте. В моей записной книжке есть очень хорошая фраза Джорджо Манганелли: «Литература устроена как псевдотеология, воспевающая весь мир, его начало и его конец, его ритуалы и иерархии, его смертных и бессмертных созданий. Все здесь правда, и все ложь». В то время, когда вульгата выстраивалась вокруг так называемых божественных откровений, существовала своего рода очевидность, «реализм» этих откровений, явлений Святого Духа. Тогда как в литературе единственная очевидность — это качество текста. Но что такое качество текста? В вульгате о Рембо все правда и все ложь, этот текст великолепен и ничтожен одновременно. Он смешон.
— У вас в «Рембо» присутствуют фотографии, по крайней мере их описание. <���…> Можно подумать, что вы предпочитаете описывать изображения героя, а не рассказывать о том, о чем бы следовало: его побеге, молчании, превращении поэта в торговца. Словно ваше письмо эллиптично, словно в том, что оно выводит на первый план, содержится не меньше, чем в том, что оно скрывает. Иначе говоря, есть ли эмоциональное наполнение в том, что вы оставляете за кадром?
— Это происходит, потому что я всегда боюсь говорить о главном. Вы задаете хороший вопрос, увы! Да, мне страшно, я ропщу перед этим препятствием. Но в то же время я поступаю так, потому что я неоднократно пытался преодолеть это препятствие и всякий раз с оглушительным провалом. Отныне я предпочитаю делать вид, что главное для меня заключено во второстепенном, ведь главное увидят все, поскольку главное всем прекрасно известно. <���…> Относительно того, что скрывает и что показывает текст… мне самому трудно дать этому исчерпывающее объяснение. Тот тип письма, о котором я говорю, должен быть избыточно документальным и в то же время от начала до конца излагаться неуверенным тоном, именно неуверенным, — только так эти лунатические откровения не превратятся для меня в рутинную работу и мне по-прежнему будет казаться, что мои тексты падают на меня с неба. Мне ведь необходимо думать, что все это дар свыше. Поскольку я прекрасно знаю, каким трудом все это достается. Как без этой мысли получать удовольствие от писательства, как утешать себя, как стать писателем вне времени? Мы пишем, до конца не понимая о чем, но в то же время мы знаем, что если расскажем об этом именно таким способом, то вызовем у читателя сильное волнение. И что это волнение будет подобно авторскому, хотя читатель, как и автор, не будет понимать, чем оно вызвано. Все значительные тексты, которые я читаю, действуют на меня подобным образом. У меня создается впечатление, что их автор в совершенстве владеет искусством изложения мыслей, но не владеет тем знанием, которое положено в основу его текста: словно в некоторых фразах заключены одновременно чрезвычайная эмоциональная сила и всеобъемлющая тайна, словно в языке существуют смысловые узлы.
— Одна из повторяющихся тем ваших книг — подражание отцам, предкам: считаете ли вы себя современным автором?
— Как ответить? Не знаю. Конечно, сразу же хочется сказать «да». Но мне уже приходилось слышать (поскольку эта дурацкая мысль витает в воздухе), что я способствую возвращению жанра рассказа в литературу. Нет. Тысячу раз нет. Я ни к чему не возвращаюсь, я продолжаю. Мое творчество продолжает то, что всегда происходило в литературе, а как иначе? Табула раса — это глупость, мы все что-нибудь прочли, мы достаточно информированы, мы пишем о всемирной литературе и учитываем ее контекст, мы не можем оказаться вне ее. Да, изначально мы подражаем, мы страстные подражатели, но с той же страстью мы отказываемся подражать: всякая книга — это и поклон отцам, и оскорбление отцов, их признание и отрицание.
— О вашем творчестве иногда говорят как о предприятии по восстановлению былого великолепия литературы и возвращению ей той красоты языка и риторики, которые, как считается, были утрачены в ходе авангардистских экспериментов.
— Я не занимаюсь реставрацией: отклонений от нормы в языке бесконечное множество, правила риторики нарушаются постоянно. Мне, безусловно, нравится язык Клоделя, язык Шатобриана и Боссюэ, но мне кажется, что своим творчеством я эти языки ломаю. Странно, что обо мне так говорят. Я читал немало авангардистов, например, в шестидесятые годы — всех, кто был связан с журналом «Тель кель». Авангардисты мешали нам писать, и вместе с тем, возможно, они добились того, что после них мы не могли писать абы как. Многим авторам они не позволили расслабиться и вернуться в прошлое. Нельзя о них забывать. Чтение работ авангардистов позволило нам отточить литературный вкус и сохранить уважение к авторитету «высокого стиля». Обратите внимание на предпочтения этих людей: Арто — это же воплощение высокого стиля. И Луи-Рене Дефоре — вот автор, который, несмотря на то что всегда внимательно и с уважением относился к авангардистским призывам к художественному минимализму, в своих произведениях работает с языком, использует большие строфы и анжамбеманы. Возможно, к реакционерам меня причисляют потому, что, с моей точки зрения, отживший концепт красоты по-прежнему является мерилом в искусстве.
Читать дальше