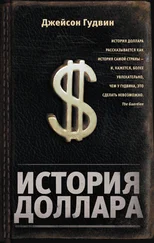Османская тяга к движению страстно требовала удовлетворения. Капыкулу не мог ничего оставить своим сыновьям. Власть, подобно великолепному султанскому двору, не могла пребывать в покое, ее нельзя было сохранить про запас, как в семействах западных вельмож и во дворцах западных владык. Венецианцы понимали это: из года в год, пока их держава теряла свое реальное могущество, они изо всех сил боролись за сохранение во всех мельчайших подробностях церемониальных почестей, оказываемых ее послу во дворце, и снова и снова скрупулезно описывали в своих relazioni [48] Донесения (ит).
весь долгий обмен пустыми словесами, в то время как леди Мэри Уортли Монтегю признавалась, что не может заставить себя писать о подобных вещах. Одежда паши рассказывала о своем хозяине все: от мест, где он побывал, до размера его свиты: для османского общества во главе угла стояло действие. При каждой встрече нужно было обмениваться подарками, и каждый должен был регулярно совершать намаз, дабы подтверждать свою веру.
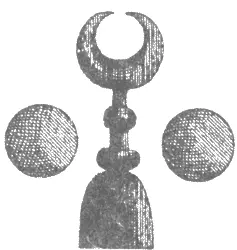
«Турки, — писал Бусбек, — не имеют часов, чтобы измерять время, подобно тому как не ставят они и верстовых столбов, отмечающих расстояние». Никому не приходило в голову считать часы, вести учет дням или страшиться каких бы то ни было расстояний — ни солдату, выступающему в поход из Стамбула, ни пахарю, готовящемуся к бою со своими каменистыми склонами, ни паше, приступающему к своим ежедневным обязанностям. Человек жил, действовал и умирал — это было известно всем.
Разворачивающийся орнамент османских завоеваний был похож на истину, которую открывают, а не создают; и первые османы обращались со временем по-хозяйски, как свойственно кочевникам. День смерти был предначертан свыше, равно как и день победы. Они никогда не оглядывались назад и не просчитывали риски. Великан-янычар по имени Хасан первым прорвался на стены Константинополя, и пусть он был тут же зарублен греками, каждый предпринятый османами штурм рождал своих хасанов, сломя голову бросающихся в бреши, готовых пасть за веру и встретиться с положенными им на том свете райскими гуриями. В ту эпоху, когда турки еще не привечали хронистов с их датами, когда Баязид получил прозвище Молниеносный за стремительность своих походов, когда османы прорубали новые дороги сквозь горы, чтобы с ужасающей внезапностью обрушиться на врага, — «Проклятье! Что за армия!» — вскричал несчастный Узун-Хасан в 1461 году, глядя, как войска Мехмеда Завоевателя несутся вниз по склону, словно лава, чтобы в мгновение ока положить конец древней Трапезундской империи, — в ту эпоху время казалось плоским и безразмерным, словно степь, и располагающим к большой скорости. Иностранцы завидовали быстроте, с которой в империи вершится правосудие; турецкие всадники мчались, как ветер, до глубины души поразив одного путешественника XIX века, который полагал, что тридцать миль в день для человека, едущего верхом, весьма и весьма немало. «Здесь же, — рассказывал он, — 100 миль в день считается быстрой ездой, 150 — самой быстрой; преодолеть 600 миль за четыре с половиной дня или 1200 за десять — и впрямь подвиг, но не такой уж редкий».
Идея о том, что весь мир рано или поздно станет единым целым, была одной из основополагающих для европейской мысли как минимум до XVII века, однако мало у кого претензия на роль объединителя подкреплялась такой искренней убежденностью в своем предназначении и такими возможностями, как у Османской империи. Быть может, надпись XV века на стене мечети в Бурсе: «Властитель земель, простирающихся до горизонта, повелитель всего мира» — строго говоря, и является подделкой, но это подделка, сделанная в оптимистическую эпоху. Каждый новый султан, опоясанный мечом Османа (османская версия коронации), шептал на ухо аге янычар: «Встретимся у Красного яблока». Под Красным яблоком понимался любой блуждающий огонек, манивший воинов ислама: Константинополь, Рим, Вена. Баязид действительно намеревался завоевать Австрию, а затем прийти во Францию; он действительно собирался устроить конюшню в соборе Святого Петра. В моменты уныния венецианцы, которые знали турок лучше всех прочих христианских народов и могли подсчитать, что доходы султана превышают его расходы, приходили к убеждению в том, что османы, несомненно, добьются успеха в осуществлении своего эсхатологического проекта создания всемирной империи. Восторженные охи и ахи венецианцев по поводу Константинополя и его географического положения не были равнодушной похвалой путешественника или исключительно оценкой коммерсанта: их не оставляло подозрение, что пропаганда, распространявшаяся из этого города с момента его основания Константином в 376 году, была правдой, что Константинополю действительно природой и историей предназначено быть центром мира. Существовало поверье, что император возвестит второе пришествие; всем было известно также пророчество о том, что до наступления царствия Христова в мире должно смениться четыре империи. Как ни крути, все говорило о том, что османы и исламский мир имели на своей стороне значительное преимущество, и, как писал в 1573 году некто Барбето, сопротивление бесполезно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
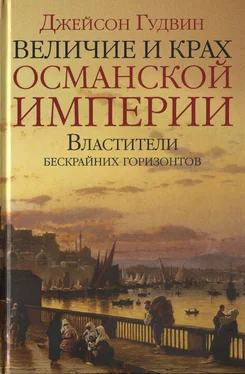
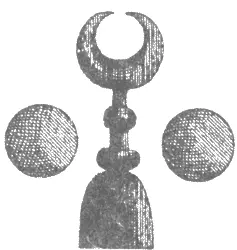
![Юджин Роган - Падение Османской империи [Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920]](/books/26025/yudzhin-rogan-padenie-osmanskoj-imperii-pervaya-miro-thumb.webp)