— Так вот и я енто же, батюшка, — отвечала старуха. Матвей глянул на бродягу. Тот лежал с закрытыми глазами, весь взмокший, с прилипшими ко лбу кольцами волос.
— Енто отварец мой пользительный наружу выходит. К утру полегчает, а там баньку истоплю, березовым духом окину — тогда совсем на ноги встанет, — ворковала старуха.
В избу вошел Тимоха.
— Дай бадейки коней напоить, отец, да укажи, где водицы брать.
Бортник взял бадью и повел холопа к черному приземистому срубу, стоявшему неподалеку от избы.
— Вот здесь возле баньки родничок. Вода в нем дюже холодная, коней не застудите.
— Ничего, отец. Кони господские, справные, выдюжат, — рассмеялся Тимоха.
Пятидесятник, широко раскинув ноги, восседал на крыльце, прикидывал, думал: «Что-то недобрая здесь заимка. Старик, поди, хитрит, петляет. Красна девка откуда-то заявилась да еще бродягу с собой привела. Ох, неспроста все это, чую. Проверить старика надо. Нагряну на днях еще раз со всею дружиной. Бортнику и мужику пытку учиню, а коли чего недоброе замечу — веревками обоих повяжу, да в железа, а девку себе приберу. Ох и ядреная…» Дружинник зачмокал губами, поднялся с крыльца и шагнул в избу.
Василиса сидела в горенке грустная, в смутной тревоге, уронив голову на ладони.
Мамон подошел к ней, положил тяжелые руки на плечи и притянул к себе.
Василиса вспыхнула, отпрянула от Мамона, прижавшись к простенку.
— А ты меня не пугайся, девонька. Поди, скушно тебе в лесной келье. Поедем со мной в село. Девок-подружек к тебе приведу. Хороводами, качелями побалуешься. Заживешь вольготно да весело.
— Не хочу я к тебе идти. Хорошо мне в лесу. Тишина здесь да покой. Приютили меня люди добрые, ничем не обижают.
— Обитель сия для бродяг да отшельников, а не для пригожих девок… Ну гляди, милая, потом другое скажешь, — недовольно молвил пятидесятник.
— Любо ей у нас, батюшка. А уж такая толковая да рукодельница. Не нарадуемся со стариком. Уж не трогай зореньку нашу, кормилец, — просяще проронила старуха.
Мамон повернулся к Матрене, окинул её хмурым взглядом и только теперь вспомнил о своем деле.
— Так примечала ли здесь беглых мужиков, бабка?
— Так енто я и говорю, — потупилась старуха. — По ягоды, грибы, травы да коренья много хожу по лесу, но ни беглых, ни разбойных людей не примечала.
Пятидесятник махнул рукой, сплюнул и вышел к холопам.
— Поехали в село, скоро вечереть зачнет. Прощай, старик.
Матвей не отозвался. Мамон тронул коня и всю дорогу молчал. Перед его глазами стояла то синеокая Василиса, то косматый тощий бродяга с огненно-рыжей бородой.
Брызжет ранняя утренняя заря сквозь сонные зеленые вершины, утопая в стелющемся по падям легком белесом тумане.
Тихо в лесу, благодатно. Дремлет бор, низко опустив свои обвисшие лапы над мягким седоватым мхом. От ветвей стоит на поляне густой хвойно-медовый дух.
Но вот трещит валежник. Качнулись, задрожали широкие ветви ели. Поднялся на задние лапы дюжий темнобурый медведь, высунул из чащобы широкую морду.
Зверь глядит на поляну, на усыпанные по ней колоды-дуплянки. Крутит мохнатой мордой, принюхивается и тихо урчит, обхватив передними лапами ель.
Тихо в избушке. Спит старый бортник. Медведь вылезает из чащи, косясь глазами на лесную рубленую постройку, крадется к дуплянкам.
Вот уже близко. Эге, сколько тут колод! Есть чем поживиться. Сейчас он уронит наземь чурбак, запустит лапу в густую медовую гущу — и примется за самое любимое медвежье лакомство.
Невтерпеж косолапому. Два прыжка — и он на пчельнике.
Зверь склоняется над колодой, но тотчас поворачивает морду в сторону избушки.
Из подворотни с яростным лаем выскочила большая, похожая на волка, матерая собака.
Экая напасть! Зверь сердито рявкнул, шерсть на его загривке поднялась дыбом и зашевелилась.
Из избы показался бортник в одном исподнем и с самопалом в руках. Завидел зверя, закричал, затряс седой бородой:
— Я те, проказник! У-ух!
Медведь неистово заревел и проворно шмыгнул в заросли бора.
Матвей еще долго слушал его обидно-раскатистый рев и тихо ворчал, посмеиваясь:
— Чужой забрел, бедолага. Свои-то знают, не лезут. А этот, видно, издалека бредет, не чует, что у меня собака. Ишь как деру дал…
На крыльцо вышла Матрена — заспанная, простоволосая.
— Ты енто чево тут спозаранку раскудахтался, батюшка?
— С медведем толкую, Матрена. А ты ложись, рано еще.
— Сам-то отдохнул бы, отец. Всю ночь, чу, не спал, на лавке ворочался. Поди, от гостей такой сумрачный?
Читать дальше
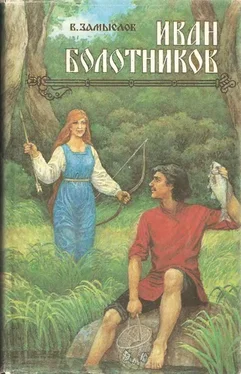

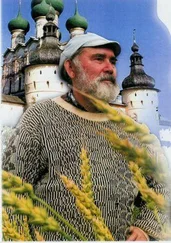

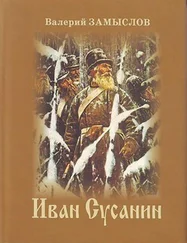





![Валерия Вербинина - Иван Опалин. 9 книг [Компиляция]](/books/390323/valeriya-verbinina-ivan-opalin-9-knig-kompilyaciya-thumb.webp)