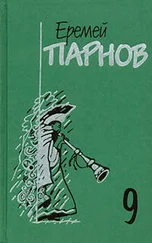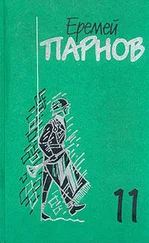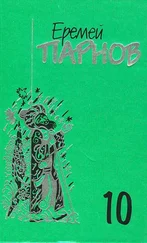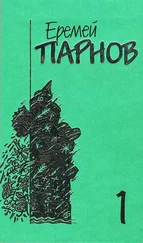— Ну еще бы!
— В чрезвычайно, исключительно трудное время — я о нем и писал. И поэтому здесь не было никакого элемента ни запугивания, ни ультиматума.
— А голодовка? — подавшись к микрофону, подхлестнул Сталин.
— А голодовка,— вздрогнув, повторил Николай Иванович.— Я и сейчас ее не отменил, я вам сказал, написал,— быстро поправился он.— Почему я в отчаянии за нее схватился, написал узкому кругу, потому что с такими обвинениями, какие на меня вешают, жить для меня невозможно. Я не могу выстрелить из револьвера, потому что тогда скажут, что я-де самоубился, чтобы навредить партии; а если я умру как от болезни, то что вы от этого теряете?
Кто-то неуверенно засмеялся, и его поддержали, и по рядам, то спадая, то наливаясь крутым прибоем, пронесся хохот.
Потрясенный Бухарин, шевеля беззвучно губами, пытался понять, что происходит, и ничего не понимал.
— Шантаж,— повернувшись к Ворошилову, бросил Сталин.
Замечание о самоубийстве он воспринял как вызывающий намек. Это было неприятно вдвойне, потому что на декабрьском Пленуме Серго явно пытался выгородить Бухарчика.
Угаданное каким-то шестым чувством или по губам прочтенное слово пошло гулять.
— Шантаж!.. Шантаж,— шипело то здесь, то там.
— Подлость! — отреагировал Ворошилов на табачное дыхание Сталина.— Типун тебе на язык,— он погрозил Бухарину пальцем.— Подло. Ты подумай, что ты говоришь.
— Но поймите, что мне тяжело жить.
— А нам легко? — упираясь руками в край стола, вождь медленно возвысился над президиумом.
— Вы только подумайте: «Не стреляюсь, а умру!» — Ворошилов негодующе дернул плечами.
— Вам легко говорить насчет меня,— Бухарин еще надеялся пробиться сквозь ледяную броню отчуждения. Никогда в жизни он не был более искренним, чем теперь.— Что же вы теряете? Ведь если я вредитель, сукин сын и так далее, чего меня жалеть? Я ведь ни на что не претендую, изображаю то, что я думаю, и то, что я переживаю. Бели это связано с каким-нибудь хотя бы малюсеньким политическим ущербом, я, безусловно, все, что вы скажете, приму к исполнению.
В первых рядах уже откровенно потешались.
— Что вы смеетесь? Здесь смешного абсолютно ничего нет,— Бухарин всматривался в лица старых товарищей, но они расплывались — чужие, неузнаваемые. Его заставили сбиться на обсуждение голодовки, но он помнил, с чего начал и чем собирался закончить речь.— Мне хочется, говорит Микоян, опорочить органы Наркомвнудела целиком. Абсолютно нет. Я абсолютно не собирался это делать. Место, о котором говорит товарищ Микоян, касается некоторых вопросов, которые задаются следователями. Что же я говорю о них? Я говорю: такого рода вопросы вполне допустимы и необходимы, но в теперешней конкретной ,— движение руки усилило смысловой нажим,— обстановке они приводят к тому-то и к тому-то... Относительно политической установки... Товарищ Микоян говорит, что я хотел дискредитировать Центральный Комитет. Я говорил не насчет Центрального Комитета. Но если публика все время читает в резолюциях, которые печатают в газетах и в передовицах «Большевика», о том, что еще должно быть доказано, как об уже доказанном, то совершенно естественно, что эта определенная струя, как директивная, просасывается повсюду. Неужели это трудно понять? Это же просто случайные фельетончики.
Старый чекист Петере возмущенно гаркнул что-то в защиту НКВД.
— Я скажу все, не кричите, пожалуйста,— он болезненно ощущал полнейшую отчужденность. Так, наверное, толпа заодно с инквизиторами сжигала глазами еретика, уже не различая в нем мыслящую личность.
Неожиданно на помощь пришел Молотов.
— Прошу без реплик. Мешаете.
— Товарищ Микоян сказал, что я целый ряд вещей наврал Центральному Комитету,— Бухарин благодарно кивнул, всем существом откликаясь на проблеск, пусть даже мнимый, сочувствия.— Что с Куликовым я двадцать девятый год смешал с тридцать вторым годом. Что я ошибся — это верно, но такие частные ошибки возможны...
— Прошибся,— подал голос начальник Политуправления РККА Гамарник, огладив окладистую черную бороду.
Сидевший рядом с ним Тухачевский почти демонстративно отвернулся. Он никого не защищал, но и участвовать в травле считал невозможным ни при каких обстоятельствах.
На следующее утро выступил Молотов. Очередная фантазия Николая Ивановича развеялась при первых словах. Сочувствием или хотя бы элементарным человеческим отношением тут и не пахло.
Читать дальше