— Мы сегодняшний злосчастный день тоже не выпрашивали, сердар-ага, — сказал Перман, — и завтрашний черный день может наступить без нашей воли. Как бы еще в большую беду не попасть. Надо бы заранее поискать выход.
Сердар досадливо поморщился и сказал тоном, явно показывающим, что он не желает продолжать разговор:
— Вот идите и находите!
Мяти и Перман переглянулись понимающе и ушли.
Солнце уже поднялось над землей на высоту копья, а безлюдный аул все еще являл собой печальную картину. Особенно гнетущее впечатление производила необычная тишина, словно жизнь ушла из этих мест.
Мяти-пальван остановился у кепбе [23] Кепбе — глинобитная мазанка.
Махтумкули. Дверь была широко раскрыта. На полу, среди груды разбросанных кизылбашами книг и рукописных свитков, сидел на корточках сын Мяти — Джума. Старый поэт любил его, как родного сына, за пытливый, острый ум, за веселый характер и большие способности: Джума слагал стихи, играл на дутаре, неплохо пел. Он тянулся к Махтумкули, целыми днями пропадал в кепбе поэта. И сейчас, даже в такую минуту, для него самое важное — книги. Он осторожно берет их, сдувает пыль, протирает рукавом халата и складывает аккуратной стопкой. Вот он листает «Гулистан» Саади, берет диван [24] Диван — сборник стихов или поучений.
Навои, а это — «Шахнамэ» Фирдоуси. Он с увлечением рассматривает каждую из книг, словно нашел бесценное сокровище.
Темнолицый Перман заглянул в кепбе через плечо Мяти, прошептал:
— Не мешай ему… Пойдем.
Махтумкули сидел в своей кибитке и беседовал с кизылбашем. Голова пленного была повязана окровавленной тряпкой. Правая рука, тоже перевязанная, покоилась на груди, в косынке, перекинутой через шею. Он держал пиалу с чаем в левой руке и рассказывал Махтумкули о том, как попал в Хаджи-Говшан.
При виде двух вошедших великанов-джигитов, кизылбаш заметно побледнел, поставил не донесенную до рта пиалу и поднялся, испуганно переводя взгляд с Пермана на Мяти-пальвана.
— Не беспокойтесь, — сказал Махтумкули, поняв его состояние. — Садитесь.
Однако кизылбаш продолжал стоять навытяжку и сел только после того, как уселись пришедшие. Он был еще сравнительно молод, этот ночной разбойник, не старше тридцати лет. Короткая шерстяная куртка была надета поверх бархатной жилетки. Широкие штаны почти целиком закрывали голенища черных сапог. И по одежде, и по чистому, гладкому лицу было видно, что он не из простых нукеров. Перман рассматривал его со смешанным чувством вражды и непонятной симпатии.
Мяти-пальван, расчесывая волосатыми пальцами всклокоченную бороду, спросил:
— Ты, не знающий своего бога кул [25] Кул — раб и потомок раба, обычно презрительная кличка.
, как тебя зовут?
Кизылбаш непонимающе моргал. Его большие, серые глаза были полны напряженного внимания и желания понять, что сказал ему этот седой богатырь.
За кизылбаша ответил Махтумкули:
— Зовут его Нурулла. Он единственный сын у родителей. Разыскивает похищенную сестру.
Мяти-пальван свел широкие брови:
— Все они сестер разыскивают, когда дело до расплаты доходит. Врет, конечно. Обычный охотник до чужого добра. Отведал бы плети, сразу забыл бы про сестру!
Перман вспомнил тех, избитых до бесчувствия пленников возле дома Адна-сердара и подумал, что, попади этот Нурулла в руки сердара, не миновать бы ему плетей. Его счастье, что он нашел защиту в доме Махтумкули-ага.
— К какому решению пришел сход? — спросил поэт, отводя щекотливую тему.
Мяти-пальван, отхлебнув из поданной ему хозяином пиалы, покосился на Нуруллу.
— Ничего определенного не решили. Сегодня сердар любому слову поперек становится, лучше не подходи к нему.
— Ну и не надо подходить. У него всегда одна забота была — рубить да грабить… — Поэт тяжело вздохнул и сурово продолжал — Странно и нелепо устроен этот мир! Если бедняк, не имеющий куска хлеба, возьмет из чужого курятника одно яйцо, мы кричим: «Вор!» А если не влазящий в собственную шкуру от сытости ограбит чужое селение, разорит бедняцкие хозяйства, — это называется храбростью и мужеством. Поистине удивительна эта узаконенная несправедливость!
— Ахун тоже заодно с сердаром, — вставил Перман.
— Ахун — хитрый человек, — согласился старый поэт, — у него вечно голодные глаза и скользкая совесть. Человек духовного звания должен довольствоваться милостями аллаха, а помыслы его должны принадлежать народу. А у нашего ахуна всего и святости, что аккуратно пять раз в день намаз совершает.
Читать дальше
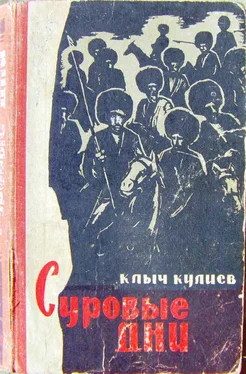



![Клыч Кулиев - Непокорный алжирец [книга 1]](/books/184036/klych-kuliev-nepokornyj-alzhirec-kniga-1-thumb.webp)







