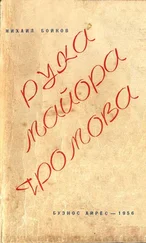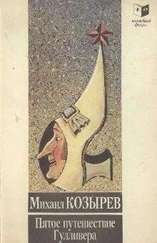Под вечер Озермес взял лопату, вырыл в том месте, где он собирался поставить саклю, яму и поставил в нее кувшин, наполненный до краев водой. Если до утра воды не убавится, место для сакли выбрано удачно. Что означала эта примета, он не знал, но нарушать обычай предков ему не хотелось. Отец говорил, что правила, лишенные мудрости, высыхают и умирают, как состарившиеся деревья, а нужное людям, если его беречь, передается из поколения в поколение. Возможно, уже не было необходимости зарывать кувшин с водой на месте будущей сакли, но чтобы отказываться от старого правила, надо знать его суть.
Где то вдали завыл волк: — Во-у-у-у... — А может, это была волчица, зовущая мужа. Когда они легли спать, вой возобновился. Чебахан села, прислушалась к заунывной жалобе лесной собаки и сказала: — Наверно, он остался один, без стаи, без собратьев и детей. Как мы. — Белорукая, — спросил Озермес, — ты не хотела бы раздеться и повернуться ко мне головой? — Я уже много ночей жду этого твоего вопроса, — тихо отозвалась Чебахан... Потом она зашептала ему на ухо: — Мне стыдно, я спросила бы у матери, но... Когда мы вместе, я ничего не чувствую, только боль. Так и должно быть? — Озермесу вспомнилось, как он словно бы опускался в теплую летнюю воду, когда был с первой своей женщиной, и буйные ласки вдовы абрека, после которых у него, когда он вставал, подкашивались ноги. — Я объясню, — снова зашептала Чебахан, — это как если бы ты дарил мне яблоко, а я не чувствовала его вкуса, а своего, которого ты ждешь, не давала бы тебе вовсе. — Мы с тобой по-разному чувствуем, — сказал он. — Мать или другая замужняя женщина могли бы тебе растолковать то, чего я не понимаю. Наверно, ты поторопилась взять себе мужа. Если я прав, ты рано или поздно станешь чувствовать так же, как я. — А если нет? — спросила она. — Я боюсь разонравиться тебе, муж мой, хочу, чтобы ты получал от меня все, что должен получать мужчина от женщины. — Не расстраивайся, я доволен своей болтуньей. И вижу, что ты в самом деле такая же, как Жычгуаше. — Чебахан довольно хмыкнула, отодвинулась и перелегла головой к его ногам. Немного спустя Озермес услышал ее сонный голос: — Я давно не слышала твоих песен...
Утром, когда они встали, воды в кувшине не убавилось. Можно было строить саклю на этом месте.
Кто то издали позвал Озермеса. Он прислушался, хотел открыть глаза, но отяжелевшие веки не поднимались. Кто звал его?.. Он услышал, как где то поблизости на деревьях шуршит от ветерка листва, и, несмотря на опущенные веки, вдруг увидел, как ветка с крохотными нежными листочками удлиняется, опускается ему на лоб, и это уже не ветка, а чья то прохладная рука. Жар, обжигавший голову и грудь, стал угасать. Женский голос что то зашептал ему на ухо. — Кто ты? — спросил он. — Жычгуаше? Я не вижу тебя. — В ответ тихо зашуршала листва. — Не понимаю, — сказал Озермес.
— О, муж мой, проснись! — Озермес поднял голову. Чебахан стояла возле тахты и смотрела на дверь. В очаге чуть тлели угольки. Чебахан готовила еду на летнем очаге, а огонь в сакле разжигала по вечерам, чтобы как следует просохли обмазанные глиной стены. За окошком, затянутым оленьим пузырем, желтел лунный свет. — Что? — хриплым со снаголосом спросил Озермес. — Какая то женщина... Ходит и плачет. — Озермес прислушался. В саклю проникали лишь обычные звуки безветренной лесной ночи. Где то ухал филин. У двери грызли порог мыши. Озермес зевнул. — Приснилось тебе, белорукая. — Я слышала, как плачет женщина, и шаги ее слышны были. — Озермес нехотя поднялся, натянул бешмет, чувяки, надел шапку и пошел к двери. Когда он выбил клин, мыши кинулись от порога врассыпную. Озермес открыл дверь и услышал жалобный женский голос: — Он голодный, ему холодно, оденьте его!.. — Голос доносился со склона горы, где на опушке леса стояли сапетки для пчел. Озермес закрыл дверь, забил клин, пошел к своей тахте и стал раздеваться. Чебахан на корточках сидела у очага, разравнивая щепкой угли. — Слышал, как она плачет? Кто это? Откуда она взялась? — Это не женщина, белорукая, это алмасты. — Чебахан подскочила. — Алмасты? Ты увидел ее? — Нет, она бродит за пасекой. Хочешь, выгляни, рассмотри ее, если она подойдет ближе. — Чебахан поежилась. — Можно, я перейду к тебе? — Иди. — Она подошла к его тахте и забралась под бурку. Откуда то снизу, из ущелья, донесся волчий вой. Чебахан подергала Озермеса за ногу. — А как алмасты нашла нас? — Ходила, ходила, одного аула нет, другого нет, людей не видно, вот и дошла до нас, наверно, увидела издали дым из нашего очага. А может, живет поблизости. — Чебахан прижалась к ноге Озермеса своей плотной плоской грудью, и его потянуло обнять ее. Он приподнялся, но Чебахан зашептала: — Тише, слышишь, как она плачет? — Издали доносились протяжные причитания. — А если она постучится в дверь? — дрожа, спросила Чебахан. — Хм, — проворчал Озермес, — хачеш мы еще не построили, придется пригласить гостью в саклю. — Не надо! — всполошилась Чебахан. — Лучше притворимся, что спим. — Я пошутил, белорукая, в человеческое жилье алмасты никогда не забираются. — По потолку ползали расплывчатые желтые пятна лунного света. В овраге, переливаясь через запруду, ровно журчала вода. Озермес знал с детства, что алмасты — безобразная голая женщина с распущенными волосами, волосы у нее такие длинные, что она может обвернуться ими как платьем, живет алмасты в оврагах и в кустарниках, днем появляется редко и, встретив человека, стремительно убегает, но, родив ребенка, ночами ходит по аулам, плачет и просит одежду для младенца. Жалкое существо. В давнишние времена, когда горы еще не были горами, алмасты была женщиной, в чем то провинилась, и Тха, прокляв, превратил ее в алмасты. Но какое преступление могла совершить женщина по отношению к своему ребенку, чтобы ее постигла такая суровая вечная кара? — Идет, — шепнула Чебахан. Застеной послышались еле различимые шаги, потом за дверью трудно задышали. У Чебахан часто застучали зубы, и она еще плотнее прижалась к ноге Озермеса. Шаги отдалились. — Ушла, — сказал Озермес. — Не трясись ты так. Приляг ко мне. И если хочешь, разденься. — Чебахан промолчала, потом завозилась с одеждой. За это время Озермес разделся сам. Чебахан тихо сказала: — Алмасты ходит голой, а я умерла бы состыда, если бы ты увидел меня обнаженной. — Как всегда молча перетерпев его ласки, она с облегчением вздохнула и повернулась на бок. — Мне все казалось, что алмасты стоит за дверью и прислушивается. — Спи, — велел Озермес, — скоро рассвет, и ее уже не будет.
Читать дальше