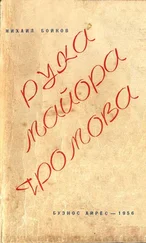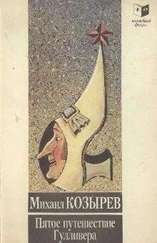Я жадно вслушивался, и наконец ветер, задувший со стороны бивака, донес до меня речь солдат, сидевших у ближайшего костра. Они говорили, что войне конец и что отслужившим срок кадрам будут на выбор раздавать здешние земли, вроде бы офицерам по четыреста десятин, а нижним чинам по тридцать, на это чей то мрачный голос возразил: нижним чинам фигу дадут, казакам разве, а вот генералы, те уж сообразят для себя, внакладе не останутся. Потом кто то пожалел непутевого Ванятку, ни за грош пропавшего, и я подумал, не о том ли безусом говорят, голову которого принес Салих. Вряд ли безусый был казаком. Кто то подошел к костру. Послышался сиплый басок, и меня будто вскинуло от земли — это был голос нашего фельдфебеля Кожевникова, того самого, который так пестовал меня, учил нехитрой солдатской науке и оберегал от разносов начальства. От неожиданности или от сырости, прохватившей меня, я стал дрожать. Послышались еще голоса, и из за повозки вышли двое, стали справлять малую нужду.
— Клятый аул! — выругался один и сплюнул. — Были бы уже на месте, кабы не он.
Я узнал Гайворонского и обрадовался. Да, голос этого презираемого мною раньше человека тоже показался приятен мне, и, встреться мы тогда с Гайворонским лицом к лицу, я скорее всего бросился бы ему на шею. Лазутчик, приползший к биваку за шпионскими сведениями, я слушал, ощущая тяготу к тому, что не было уже моим и все таки, оказывается, сохранялось во мне, как сохраняется на всю жизнь показавшееся вместе с появлением на свет родимое пятно.
— Граф обещал Офрейну, что про нас не забудут, — произнес другой, незнакомый мне голос. — Ежели мы успеем к церемониалу, наш батальон пойдет во главе колонны, и великий князь...
— Бросьте, поручик, — перебил Гайворонский, — будто вы не знаете — кто смел, тот и съел. Покуда мы дойдем до места, награды будут уже распределены. Мало было нашему полковнику славы, дернул его черт еще и на уничтожение этого аула проситься. Провоевать столько лет, и под занавес попасть под дурацкую пулю...
— Полковник приказал патронов и ядер не жалеть. С рассветом за катим пушку повыше водопада, и сверху лихо все пойдет.
— Вам то издали лихо, поручик, а мне первым вести свою роту под огнем неприятеля через речку...
Они скрылись за повозкой. Я невольно отметил, что Гайворонский стал ротным.
Теперь я не раз задумываюсь о том, что обманывался тогда, воображая, будто меня потянул к себе дым отечества, нет, меня искушало все, вместе взятое, — и путь, от которого я отказался, и карьера, которой я пренебрег, иначе говоря, тот рабский строй жизни, при котором одни люди владели моей судьбой, а судьбой других — подчиненных мне нижних чинов — распоряжался я. Не мыслю, какие перемены должны произойти и сколько столетий на это уйдет, чтобы мы стали свободными внутри себя и признали бы такую же свободу в других. Но так я думаю нынче, а тогда я лежал на земле и плакал, слушая, как солдаты, сидевшие у костра, поют «В поле чистом». Слушая песню, я думал, что если крикнуть: «Братцы мои, не стреляйте» — и встать, то через минуту другую я буду в биваке, меня окружат, обнимут, и если я не скажу правды, а, придя в бивак, я действительно не скажу ее, то завтра удалой поручик, бежавший от черкесов, будет представлен самому великому князю, награжден Георгием, получит очередной чин, денежное содержание за два года и отпуск для поправки здоровья, ему дадут роту, потом батальон, потом полк, он уйдет в отставку генерал майором, а случись еще одна такая война или вспыхни восстание где-нибудь в Дагестане или на родине Высоцкого, дослужится, вроде князя Барятинского, до генерала фельдмаршала, и от того, поступлю ли я так или вернусь в аул, в мире ровным счетом ничего не изменится, кроме совсем несущественного — одним подлюгой больше станет. Общество, узнай оно правду, безусловно, оправдает подлюгу, но оно никогда не узнает. Узнают другие — те, кто ждет в ауле моего возвращения, и, самое главное, буду знать это я...
Над горой стало высветляться — скоро должна была появиться луна. Я пополз к лесу, за деревьями встал и побежал, чтобы согреться. Переходя то по камням, то вброд излуку речки, попал в ямину, промочил ноги и присел под корявым дубком — выжать воду из шерстяных носок.
Кто то, тихо разговаривая, спускался к реке. Не заметив меня под низкими ветвями, по откосу сошли парень и девушка. Она, шлепая босыми ногами по воде, зашла за скалу, он стал снимать черкеску. При шли купаться. Плескаясь, они снова заговорили, повысив голос, чтобы слышать друг друга за шумом водопада.
Читать дальше