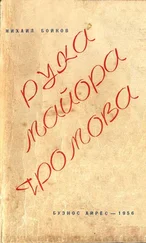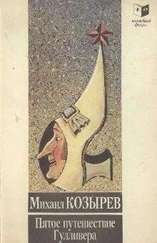— Мужчина плачет только в горе. Если он льет слезы от боли, значит, он шакал, а не мужчина. Приложи к своей царапине паутину и завяжи тряпкой.
На этом воспитание не кончилось. Вечером того же дня Аджук рассказал мне две истории, которые предназначались стоявшему рядом со мной Закиру.
— Старик один, Хатук звали его, умирал. Приехали из соседнего аула мужчины, проведать, попрощаться. Боли у Хатука были такие, будто его кинжалами кололи, но он встретил друзей с улыбкой. — Кто вам сказал, что я болен? — Хатук смеялся до тех пор, пока ему не поверили. Гости тоже посмеялись, пошутили и сели на коней. Жена спросила Хатука: — Для чего ты обманул их, ты ведь мучаешься? — Он не сумел ответить, был уже мертв. За гостями послали гонца — вернуть их, они только успели выехать из аула... А еще я помню двух кунаков, один был высокий, как сосна, по имени Хушт, другой маленький, как гриб, имя ему было Гучипс. Оба славились как шутники. Хушт, вытянув руку, говорил: — Гучипс, иди, я тебя от дождя ладонью прикрою. — А Гучипс предупреждал: — Эй, осторожнее, не поцарапай головой облака! — И еще уверял: — Когда нибудь и я достану до неба. — В одном бою Хушта прикололи к земле шашками, а Гучипса подняли на пики. Умирая, он посмотрел на Хушта и, смеясь, прохрипел: — Какой ты, оказывается, сверху маленький. — А Хушт, ухмыльнувшись, отозвался: — Хоть ты и достал головой до неба, это не в счет, ноги то у тебя болтаются, не достают до земли...
Переносить боль, как шапсуги, я не научился. Наверно, выдержка и терпение должны прививаться с детства. Когда я заговорил об этом с Аджуком, он сказал, что я ошибаюсь, думая, будто мужчины терпят боль, Терпеть — значит уступать, поддаваться, от этого можно даже умереть. А надо сказать себе, мне не больно, — и тогда боль перестанешь ощущать, она сама уступит тебе.
В тот вечер, когда он это промолвил, мы сидели у сакли, в тени, на ветерке, Зара и Зайдет провеивали зерно, и Закир сидел подле меня, ожидая, пока я кончу обстругивать ножом палку, чтобы из нее получился кинжал. Биба, как обычно, где то пропадала. Получив кинжал, Закир ринулся сражаться с крапивой. Я сказал:
— Хороший у тебя сын. В нем продолжится твоя жизнь.
Аджук погладил свою вьющуюся бородку, он любил любопрения, уверяя, что хороший спор для ума как точило для кинжала.
— То, что ты сказал, Якуб, несправедливо. У султана сто детей и больше, а у меня один. По твоему выходит, будто один человек взамен своей жизни получит сто, другой — одну, а бездетный — ни одной.
— Так и есть, — подтвердил я. — В чем же несправедливость? Каждый может иметь столько детей, сколько захочет. Скажи, а почему у вас никто не имеет гаремов?
Аджук развеселился.
— Этот вопрос задают все — и русские, и турки, и франки... Один мудрый человек хорошо ответил. Его ответ — мой ответ. Во первых, я люблю свою жену, во вторых, иметь много жен слишком дорого, в третьих, слишком шумно. Ты знаешь, у нас мужчина может жениться на сестре умершей жены, а женщина стать женой брата покойного мужа. Это разумный обычай — вдовец и вдова не остаются одинокими, а кровь смешивается та же. Но мы не докончили разговора. Ты, Якуб, был бы прав, если б человек умирал и дети рождались после него, а так — и я живу, и мой сын живет...
— Но все таки жизнь ему дали ты и Зара, — не согласился я.
— Нет. Мы лишь передаем жизнь один другому, а дали нам жизнь они. — Он показал на небо, на горы и на водопад.
Я не нашел, чем возразить, и умолк, наблюдая за гибкими движениями Зайдет. Безотносительно к ней подумал, что придет и мое время, кто то мне полюбится, и у нас будут дети, которым я передам полученную мною от своих родителей жизнь.
Той осенью я стал заглядываться на женщин, ходить на вечеринки джегу, где можно было послушать песни, поплясать, а потом хоть до утра гулять с понравившейся тебе девушкой, если она на это соглашалась. По совести сказать, мне нравились в ту пору все девушки вместе, каждая по своему. Лишь одна особо обращала на себя внимание, да не только мое, ею любовался весь аул. По имени Чебахан*, с огромными, неописуемо огромными серыми глазами, отражавшими все оттенки неба, легкая, со скользящей поступью, она словно бы принадлежала и земной жизни, и какой то другой, нам, людям, неведомой. Шутник, старший брат Чебахан, как то поставил ей на голову одну на другую миски с водой, и она прошла по аулу, ни капли воды не расплескав. На парня рассердилась за его проделку. Предполагаю потому, что в отношении джигитов в Чебахан проскальзывал оттенок суеверного почитания. И я, сколь бы ни напряг своего воображения, не сумел бы представить ее своей или кого либо другого женой. Попробуй ка ты, читатель мой, представить собственною супругой будущую Богоматерь.
Читать дальше