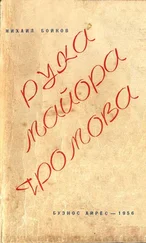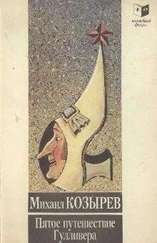— У меня есть кунак — русский, — сказал Озермес, — зовут его Алия, по вашему Илья. Он не хотел воевать с нами, живет теперь в ауле. Я могу взять тебя с собой.
Кровь частыми толчками забилась в висках. Как же раньше мне не приходило в голову?..
— Хорошо, Озермес, я пойду с тобой.
Он попросил подождать его возле моря, у камня, пока он сходит на поляну попрощаться.
Я побрел к морю, встал у поросшей мхом скалы и подумал, что сон сейчас кончится и я очнусь на тахте от храпа Закурдаева. Море рокотало, по воде бегали лунные блики. Мне стало холодно. Куда меня несет? Не все ли равно? В конце концов, безразлично — стреляться или идти навстречу неизвестности — в тот выход из тупика, о существовании которого я не догадывался. Разумеется, судорожное хватание за жизнь — свидетельство моего безволия, духовного несовершенства. Ничто ведь не могло оправдать моего существования, моего появления на свет божий, муравей был куда полезнее меня. Но что поделаешь, человек есть человек, он слаб... Я вспомнил о Закурдаеве, утром старик забьет тревогу, но оставлять для него записку не стоит, пусть никто не знает, куда я исчез, да и матери моей легче будет надеяться и ждать, чем получить извещение о смерти сына. Мать, как она потом написала мне сюда, в ссылку, действительно не поверила слухам о моей гибели. Узнав о случившемся, она оправдала меня, как оправдывают своих сыновей все матери на свете.
Шагов Озермеса я не расслышал. Он вырос как из под земли.
Я шагнул навстречу ему, и в ту же секунду фуражка моя слетела на землю, неподалеку грохнул выстрел. Я оцепенел. Озермес толкнул меня за скалу и что то крикнул по черкесски. Ему не ответили. Закричали протяжно часовые, где то за укреплением снова выстрелили. Затем все стихло. Озермес поднял и протянул мне фуражку.
— Ты стоял так, что луна хорошо освещала тебя, — объяснил он.
— А кто в меня выстрелил?
— Абрек один, там умирает его дядя. Я забыл спросить — тебе не нужно брать коня, сказать до свидания Закурдаю?
— Нет.
— Тогда в дорогу.
Мы пошли куда то — сперва через мыс, потом изморьем, дальше и дальше, поднимаясь на горные отроги, спускаясь в расщелины, переходя вброд речки, море все оставалось справа, а луна опускалась ниже и ниже, пока не погрузилась в воду. Но мы не замедляли шаг, и в темноте все снова казалось сном, медленным и нескончаемым.
То, о чем мы говорили, вспоминается теперь смутно. Часа два, наверное, спустя, после того, как мы покинули поляну, Озермес, словно спохватившись, спросил:
— Как ты поживаешь?
— Спасибо, — удивленно ответил я.
— Надеюсь, семья твоя в добром здравии?
Я снова поблагодарил, догадываясь, что вопросы Озермеса — ритуал черкесской вежливости, и добавил — мать у меня одна, она далеко.
На это услышал:
— Пусть Аллах дарует ей здоровье. Скажи мне твое имя.
Я назвал себя. После непродолжительного раздумья Озермес задал новый вопрос:
— Ты будешь нашим гостем, Якуб? Или поселишься в ауле?
Якуб — вот каким станет мое имя. Мысль о переходе к горцам и совместной с ними жизни никогда не приходила мне на ум. Я уже упоминал, приведя наш с Закурдаевым разговор, те, чьи имена войдут в историю — декабристы, — к черкесам не перебегали. Да простится мне, что я называю себя в одном ряду с ними, прощением мне одно — и именитые, и безвестные схожи в своих предрассудках и прегрешениях. Когда я пошел с Озермесом, я не к шапсугам направлялся, а уходил от всего опостылевшего, от смерти, от самого себя. Я подумал о том, что на за данный им вопрос все равно рано или поздно придется ответить.
— Буду жить с вами, — неуверенно произнес я.
— Ай, аферим*! — изменив своей сдержанности, воскликнул Озермес.
— Почему мы идем ночью? Куда ты торопишься? — спросил я.
— В ауле человек умирает, меня ждут там.
У читателя может возникнуть вопрос — не слишком ли легко Озермес доверился чужому человеку? Доверчивость к людям отличает горцев, как и всех людей, близких к природе. Возможно, я не прав, но мне представляется, что подозрительность и отчужденность в известной степени плоды цивилизации. Бывают, разумеется, и другие причины. На Вологодчине, например, двери не запираются, замков там не увидишь. Мать рассказывала, что путник может войти ночью в любую избу и хозяин, проснувшись, ни о чем не спросит и тотчас примется ставить самовар. А в Приангарье на дверях запоры, на окнах дубовые ставни — избы как крепости. В ночную пору незнакомцу, хоть он примется бревном в дверь колотить, ни за что не отворят, ибо пришелец может оказаться беглым каторжником и убийцей.
Читать дальше