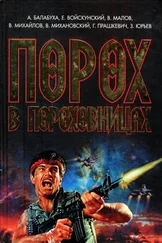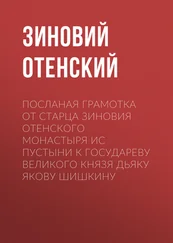В ночь, когда привезли князя Ивана в Иосифов монастырь, выпал первый снег.
Темно было в келье, но от снега посветлела слюдяная окончина, да из-под двери пробилась внутрь белая снежная полоса. Прошел монах, старец-будильник, и постучал в дверь; потом другой старец отпер дверь снаружи и вошел к князю Ивану без молитвы и спроса. Князь Иван присел на мешке, набитом соломой…
— Чего тебе, отче?..
— Не велено… не велено… — стал шамкать беззубым ртом дряхлый старик. В озябшей руке у него чуть теплилась тоненькая свечечка, и огонек, обдаваемый дыханием, клонило то в одну сторону, то в другую.
— Чего не велено? — спросил князь Иван, поеживаясь от холода, разглядывая свою келью, не совсем еще понимая, что же такое с ним стряслось, как же будет дальше.
— Не велено… не велено… — твердил упрямо старец. — Отдай… отдай…
— Чего те отдать, старый? Скажи толком.
— Черниленку отдай, перышко отдай, бумагу, мелок-уголек… Хи-хи!..
И старик, прилепив свечку к подоконнику, стал обшаривать князя Ивана, снял с него чернильницу поясную, вытащил из кармана бумаги клочок.
— Древен ты, — сказал князь Иван. — Землей пахнешь.
— И то, — согласился старец, — землей. Земля есмь прах и навоз, червям пища. И ты — навоз. Хи-хи!
Князь Иван дернулся тут, пихнул старца, тот откатился и сел на пол.
— Господи Сусе, — забормотал он, — спаси спасе, сыне божий, владычица-троеручица, скорая помощница… Старца убогого до смерти убил… убил… Ужо я тебя в земляную тюрьму, коль будешь несмирен. Попомнишь Исайю старца. — И он поднялся с пола и побрел к окошку за свечкой.
— Отче, — окликнул его князь Иван. — Исайя тебе имя?
— Исайя, — подтвердил монах, — Исайя. А был я в миру до пострижения Ивашко Бубен. Славен бубен за горой. Да то уж минуло лет тому с два сорока. А теперь я Исайя, старец тюремный… Тебя буду сторожить. Гляди!.. — погрозил он князю Ивану и поплелся к двери.
Князь Иван остался один.
— Кузёмка, — стал шептать он, стал твердить, стал повторять без конца. — Кузёмка, Кузёмка, неужто Кузёмка?.. — И даже стихами у князя пошло:
Зла была его порода,
Словно аспидского рода,
От раба моего изнемог,
И никто мне не помог.
От Кузёмки изнемогаю. Предал меня, значит, мой же холоп. Погибель тебе, дукс Иван, от вепря, от змея. Через Кузёмку дознались они обо всем.
Князь Иван сунулся за черниленкой, за бумагой, но Исайя унес все с собой. И ничего не осталось теперь князю Ивану, как твердить наизусть свои вирши, сновать по келье, хвататься руками за решетку в окне. Потом ударил колокол к заутрене. Потом и к обедне. И целый день, почти без перерыва, гудели, пели, разговаривали колокола. Чтобы не думать, чтобы не скорбеть, чтобы умом не помрачиться, стал подбирать князь Иван слова к колокольному звону: день… тень… длин… сон… Это были малые, «зазвонные» колокола. Взбуженные звонарем, они всякий раз начинали переговариваться, как бы нехотя и вяло:
День…
Тень…
Длин…
Сон…
Но скоро разговор становился все живей, все дробней:
День, тень…
Длин сон…
Сон длин, день длин…
Так казалось князю Ивану, который, сгорбившись, сидел на лавке в промозглой келье и ждал невесть чего. И хоть о длинном дне твердили колокола и нескончаемым казался он князю Ивану, но настал вечер, потемнела окончина за решеткой, визг пошел из крысиных нор в земляном полу. Наконец пришел Исайя, поставил на подоконник деревянную тарелку с хлебом и рыбой и, посветив свечкой по углам, молвил:
— Не велено тебя выпускать из кельи до воскресенья. Поживи тут без церковного пения под моим началом. Буду тебя истязать крепко в смирении и вере. Ибо несмирен ты и горд. Самомнением обуян и гордыней. Старца, монашеским чином украшенного, нонче утром до полусмерти убил. Царю непослушен, бешеный!.. — стал кричать Исайя, надвигаясь со свечкой своей на князя Ивана. — Великому государю, патриархом помазанному!.. Тьфу тебе, пес!
Старец и впрямь стал брызгать слюной князю Ивану на кафтан, на шапку, в лицо. Князь Иван откинулся, потом с силой выбросил кулак Исайе в брюхо. Старец упал навзничь, бросил потухшую свечку и пополз к двери, бормоча:
— Ужо тебе будет… В тюрьму в земляную… Завтра… Бешеный, тьфу тебе, тьфу!
И, выползши на крыльцо, побрел к игумену, к отцу Арсению в хоромы.
Но сажать князя Ивана в земляную отец игумен не благословил. В земляной сидел уже другой узник, привезенный в обитель из Ярославля всего тому с месяц, и от великого государя Василия Ивановича было указано прямо: держать его неисходно в рогатке [170] Надевавшаяся на заключенных в известных случаях рогатка представляла собой снаряд, снабженный шипами, не дававшими преступнику лечь ни на бок, ни на спину.
в земляной тюрьме. Ни имени, ни прозвища присланного не значилось в указе. Именовался он просто вралем и великого государя супостатом. «И когда решенный враль станет облыгаться и кричать пустое во отступлении ума, то сторожа и монастырская братия и кто случится затворяли б слух и отбегали от земляной тюрьмы изрядно, шагов на тридцать и больше, и ты бы, отец игумен, говорил братье, что посажен в земляную великий грешник и враль, врет-несет, а что-де солгано, то — враки».
Читать дальше
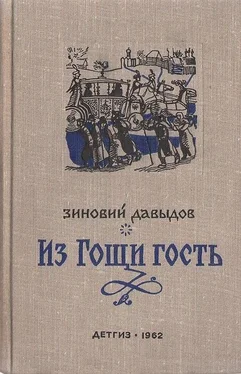
![Зиновий Зиник - Русская служба и другие истории [Сборник]](/books/26974/zinovij-zinik-russkaya-sluzhba-i-drugie-istorii-sbo-thumb.webp)