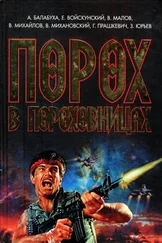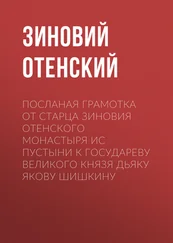— Допряма ж и сказано, князь-боярин, — хрипел Кузёмка. — Допряма, князь.
— Ходил ты за рубеж и сказывал там московских вестей?
— За рубеж не хаживал, князь-боярин. Московских вестей не говорил.
— А в Можайск зачем прибежал?
— Мерина…
— Мерина ты искал не у короля ли в Литве? Мерину твоему рублишко — вся цена красна, а ты с лета ходишь, его ищешь. По Колпитскому яму шатаючись, мерина искал; дознался я подлинно. У колпитских ямщиков лапти покупал. В Можайск как пришел, отчего в съезжей не записался?
Кузёмка молчал.
— Ну, Вахрамей, разговори его, молчаливого.
И Вахрамей скручивал Кузёмке ремнем назади руки. Привязав к ним веревку, он перебрасывал ее через закопченное стропило и подтягивал Кузёмку вверх, к жирной паутине, лохмотьями нависшей кругом. Кузёмка раскачивался на вывороченных руках, на веревке, которою Вахрамей обычно подпоясывал свой красный зипун.
— Отдайся великому государю повинной головой, Кузьма, — убеждал пытуемого воевода. — Авось и казнит он тебя не лютою казнью. Скажи допряма: где латынскоо письмо взял? Кто в сговоре был с тобою?
И дрогнул на виске Кузьма: уж и впрямь не грешен ли он великому государю? За рубеж ходил Кузьма воровски. Но лазутчества нет за ним, за Кузёмкой. И не изменник он: тайных вестей не проносил, а лазил за рубеж по воле своего господина, князя Ивана Хворостинина. За некоторым делом ходил к другу княжому, к Заблоцкому пану. Так бы и сказать государеву воеводе и дьякам приказным. Тогда, может, милосердней станет палач Вахрамей? Может, еще и на Москву воротится Кузьма, к Матрене… к Матрене…
И вспомнил тут Кузёмка, как в прошлом году летом пришел он к князю Ивану и пал ему в ноги, Матренку просил за себя. И обещался князю навеки верно службу служить. Ну, так служи, Кузьма… Умри… Пропади…
И вместо признания шептал Кузёмка совсем другое черными губами, языком, который вот-вот и вовсе вывалится изо рта у него:
— Не ведаю, отколь взялось письмо в тегиляе. Старый он, тегиляй, боярин-князь, носили его и до меня.
— Вор ты, Кузьма, подлинный вор и еретик! Королю ты крест целовал? Статься может, ты и причащался у ксендза. Не будет тебе милости от великого государя. А письмо то — хворостининское! Уж его в Москве и перевели с латыни в русскую речь. Господину твоему, князю Ивану, то письмо. Скажешь теперь все, допряма все скажешь!
Но Кузёмка молчал. С закрытыми глазами, как страшное страшило, покачивался он на Вахрамеевой веревке, в одних портах, босой, всклокоченный, ребрастый.
— Молчишь ты, нечистое отродье?.. Вахрамей!..
И Вахрамей, поставив Кузёмке под ноги железную жаровню, начинал раздувать огонь.
Хозяйки своей не видал Мацапура целую неделю, и спал он теперь больше в седле. У казачьего пятидесятника свистело в ухе, даже когда сходил он с коня на Ивановской площади, в Москве, за кремлевской стеной. Но вот Мацапурины ноги снова в стременах, и опять серебряная чаща бросается бахмату под копыта, и сегодня, как вчера, часами гоняют за ним волки.
Будут меня бесприютные волки встречать…
вспоминал Мацапура старую казачью песню с Донца, с Оскола.
Будут дедом за обедом коня моего заедать…
Разве здесь, на московской стороне, услышишь такую песню?
Ой, далеко… Гой, да далеко… —
тянул Мацапура звонко, тянул долго, пока бахмат не влетал обратно в Водяные ворота на занесенной снегом Можайке и с храпом не оседал на задние ноги у резных крылец на съезжей. Здесь Мацапура передавал дьяку свою шапку и с привязанной к руке нагайкой валился в угол, не сбивши с каблуков снега, не расправив спутанной заиндевелой бороды.
С каждым днем московские подьячие становились все усердней. Вон и сегодня вынули можайские дьяки из Мацапуриной шапки свиток с погонную сажень. Бумаги, что ли, им в Москве не жалко?.. Бумаги доброй, немецкой — стопа четыре гривны, — в Москве, видно, хватает?..
— «Да ты бы сыскивал про то накрепко, — читал можайскому воеводе дьяк Шипулин, — для чего тот мужик за рубеж ходил без проезжей грамоты, самовольством. Для измены или для иного какого лиха? И кто про то воровство его ведал и, ежели ведал, отчего не сказывал? И ты бы тех людей, кто ведал, велел пытать, чтобы дознаться тебе подлинно: кто его на такое дело научил, кто с ним вместе замышлял и сговаривался он с кем; про пушкарские дела государевых воевод сказывал ли он польским панам и каких вестей королевских за рубежом слышал? И про расстригу, что нарекся царевичем Димитрием, и про его смерть что слышал за рубежом и что видел, все бы сказал допряма».
Читать дальше
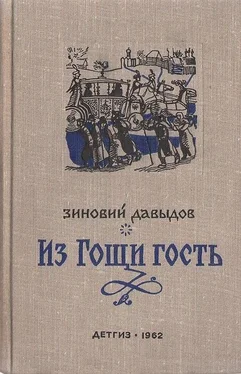
![Зиновий Зиник - Русская служба и другие истории [Сборник]](/books/26974/zinovij-zinik-russkaya-sluzhba-i-drugie-istorii-sbo-thumb.webp)