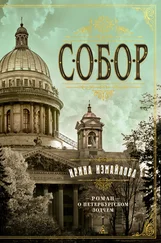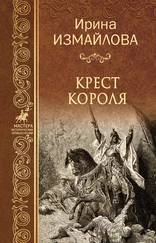Но Огюст был искренно привязан к Элизе, его мучила мысль о необходимости разрыва, и порою он думал: а не оставить ли все как есть? Ведь, в конце концов, они не были мужем и женою. Ему предстояло вскоре жениться, и Элиза должна была об этом узнать. Так почему им было не заключить на этот счет соглашения, где ее права признавались бы в равной степени с его правами? Огюст не мог понять, отчего такой простой компромисс вызывает в его душе гнев и бешенство, отчего он боится рассказать своей любовнице о Люси Шарло, отчего так не хочет получить неопровержимое доказательство Элизиных измен… Мысль об этом его жестоко мучила, и он не знал, как избавиться от этой муки.
Антуан, заметив мрачное настроение друга, догадался о его причине и начал очень осторожно (ибо не позабыл о пощечине) убеждать Огюста не ревновать и брать у веселой красавицы только то, что она может дать, радость и пылкие ласки, и не требовать скучной супружеской верности, которой его в будущем одарит и будет кормить до тошноты нежная Люси… Но Огюст, вдруг ожесточившись, прервал рассуждения приятеля и потребовал, чтобы тот честно рассказал ему все, что знает о жизни мадемуазель Пик де Боньер во время его, Огюста, долгого отсутствия. Модюи долго мялся, однако наконец изложил кое-какие свои соображения, и Монферран перестал сомневаться.
— Все это правда, Тони? — сухо спросил он, сумев, однако, выдавить на губах улыбку. — Поклянись.
— На Библии, на распятии или кровью? — ехидно спросил Антуан. — Ты, выходит, вовсе перестал мне верить? Так я же не Яго, а ты не Отелло.
— Извини, — Огюст махнул рукой. — Не те страсти, мой милый. Все это страстей не стоило и не стоит, и я никого не собираюсь душить.
Он солгал. С этого дня он упорно и жестоко душил в себе свое против воли глубокое чувство, свою первую настоящую любовь. Иногда, в порыве великодушия, он хотел разом все простить Элизе, стать ей другом, помнить только о том, что когда-то она спасла ему жизнь, но стоило ему увидеть ее, почувствовать горячие прикосновения ее рук, запах ее волос, провести губами по бархатному пуху ее щеки, и у него занималось дыхание, и он в самом деле испытывал бешеное искушение кинуться на нее, стиснуть руками ее высокую, гордую шею и закричать ей в лицо: «Моя или ничья! Слышишь! Моя или ничья! Поклянись, не то я тебя убью!» Разумеется, он понимал, что не сделает этого, и презирал себя.
Однако сцены ревности он стал ей устраивать чаще прежнего, а если обходилось без сцен, то он мог целый вечер просидеть в ее комнате мрачный, не объясняя причины своего недовольства, а потом встать и уйти (это сделалось его любимой выходкой). Иногда Элиза сносила его вспышки спокойно и кротко, но порою на нее накатывала волна возмущения, и тогда она колко отвечала на его замечания, встречала его гнев убийственным смехом, который сразу охлаждал Огюста и приводил в почти мальчишескую растерянность; а иной раз, услышав упрек, молодая женщина топала ногою и говорила, яростно сверкая своими дьявольски черными глазами:
— Если ты здесь зря тратишь время, то и ступай. Никто не держит тебя! А слушать твое нытье мне надоело! По-твоему, у меня любовники есть? Изволь же, да! Ну так что же? Дуэль? Убийство? Самоубийство? Выбирай! И оставь меня в покое!
В такие минуты она бывала не просто красива, но становилась царственна, недоступна, в ней появлялось что-то от греческой богини или настоящей царицы амазонок. Огюсту делалось страшно от сознания, что она сейчас первая прогонит его прочь, и ему придется унести с собою такое унижение, ничем за него не отплатив…
— Полно, Элиза, — говорил он тогда. — Ты же лжешь и дразнишь меня. Нет у тебя других любовников, я это вижу. К чему такие слова? Не сердись, пойми… Ты же знаешь — у меня сейчас неприятности.
Огюст не лгал.
Вступив на престол, новый король Франции Людовик XVIII, призванный к власти союзниками-победителями и французской аристократией, вначале отпугнул эту самую аристократию невероятным либерализмом. Он не стал расстреливать и вешать «цареубийц» и даже (о ужас, о позор!) оставил многих из них в парламенте. Сохранялась свобода цензуры, не был упразднен орден Почетного легиона, не была от начала до конца преобразована армия, дворянство не было восстановлено в правах, упраздненных некогда революцией [29] С возвращением к власти короля французская аристократия рассчитывала вновь обрести когда-то конфискованные революцией и проданные земли, старинные привилегии дворянства, надеялась на упразднение свободы печати к ордена Почетного легиона.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
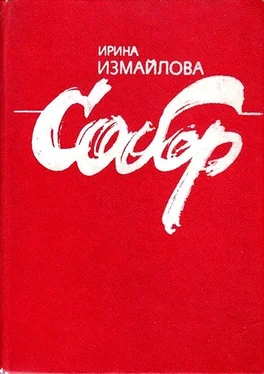

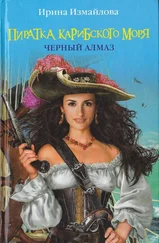




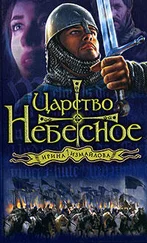
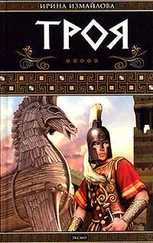
![Ирина Измайлова - Собор. Роман о петербургском зодчем [litres]](/books/432500/irina-izmajlova-sobor-roman-o-peterburgskom-zodche-thumb.webp)