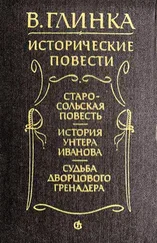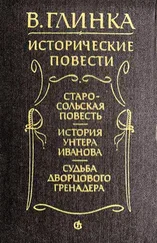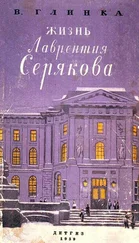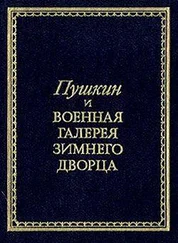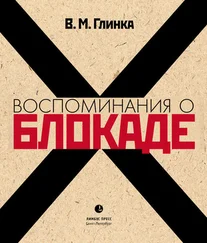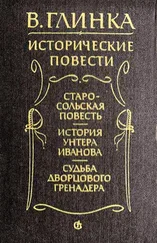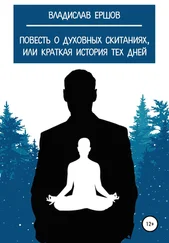— Ага, — сказал Сергей, хотя в это время больше думал, как попросить карандаш да почертить на тесине.
В тот же день произошло важное, с чего началась настоящая Сергеева привязанность к дяденьке. Сидя рядом на лавке, когда Семен Степанович полдничал, Сергей, конечно тоже что-то жевавший, засмотрелся на дяденькины зеленые сафьяновые сапожки, такие востроносые, чистенькие, в мягких складочках.
— Нравятся? — спросил Семен Степанович.
Сергей кивнул.
И вдруг дяденька звонко хлопнул ладонью по колену:
— Так ведь забыли! Эй, Филя!
Тот подбежал:
— Чего изволите?
— А что вместе с моими сапогами у татарина купили?
— Ахти, батюшки! И то!.. Тотчас сыскать прикажете?
— А то опять забыть?
Филя убежал в кибитку и через несколько минут подал дяденьке пару маленьких ярко-красных сафьяновых сапожек.
— Померь-ка, крестник, — сказал Семен Степанович.
У Сергея перехватило дыхание. Схватил сапожки в охапку, прижал к груди. Пахло от них чем-то вкуснейшим, скрипели под рукой прекрасно и цветом были красивее всего, что есть на свете.
— Целуй ручку крестному, — шептала над ухом Ненила.
— Ты лучше померь, влезут ли, — приказал дяденька.
Все прижимая обнову к груди, Сергей вытянул вперед ноги. Нянька сняла его порыжелые, деревенской работы башмаки и, разгладив чулки, натянула один за другим красные сапожки. Как плавно скользила нога по сафьяновому ярко-желтому поднаряду, как вольготно шевелились внутри пальцы!..
Ненила поставила Сергея на ноги. Щеки его пылали, руки сами вскинулись вверх — не то в пляс хотел пуститься, не то захлопать ими. Смотрел на свои сапожки и не мог насмотреться. И вдруг повернулся к дяденьке, схватил за руку, но не поцеловал, а только припал крепко-крепко щекой и носом.
— Ладно, ладно… Радуюсь, если впору пришлись, — сказал Семен Степанович.
Потом Сергей опять влез на скамейку и велел Нениле снять сапожки. Хотел еще их потрогать, рассмотреть. На каблучках набиты серебряные гвоздики, задник прострочен желтой дратвой. А носочки-то! Кончики вострые и малость задраны…
По дороге на обед Сергею стало жалко, что сапожки запылятся. Он велел Нениле посадить себя на закорки, хотя уже давно отпихивал, если хотела его понести.
Когда зашли в матушкину избу, на них сразу зашикали — Осип спал. Матушка шила на пяльцах, сразу заметила обновку и вполголоса похвалила. За ней шепотом стали расхваливать сапожки сидевшие за работой девки и больше всех Осипова нянька Анисья:
— Вот крестнику-то что дяденька пожаловали! Ты, Сергей Васильевич, благодарил ли крестного батюшку?
А Сергей все не мог насмотреться на сапожки. Чуть с крыльца не свалился — ступенек не увидел, когда пошли обедать в стряпущую. Там велел Нениле их снять, поставил рядом на лавку, прижал голенища локтем к боку. Даже поспать лечь согласился, когда нянька предложила — ведь их тоже рядом положить можно, — в сенях за занавеской, куда недавно перебрались из душной избы. Уложил между собой и Ненилой и гладил, пока не заснул.
Пробудился, как от толчка. В избе истошно кричал Осип:
— Дай, дай, хочу!
Сердце упало: сапожки! Где положил засыпая, у груди — там их не было. Ненила, раззява, ушла куда-то, — бери кто хочет!
Сергей вскочил и бросился в избу. Осип сидел на лавке с Анисьей, вертел красными сапожками, бил друг о друга.
Одним махом Сергей вырвал их и бросился прочь.
— Мне, хочу, отдай! А-а-а-а! — надсадно взревел Осип.
Дверь из сеней отворилась, на пороге встала матушка.
— Опять дитю изводишь, тварь! — гневно сказала она Анисье.
— Осип Васильевич играли сапожками, а Сергей Васильевич отняли, — доложила та.
— Дай сейчас Осиньке поиграть, — приказала матушка.
— Мои… дяденька мне подарил… во сне взяли… — лепетал Сергей, прижимая к себе сапожки.
— У, волчонок! Не слышишь, бедное дитя криком извелось? — говорила матушка, насильно разжимая его пальцы. — А за то, что не дал добром поиграть больному братцу, мы их совсем Осиньке подарим. Не плачь, сердце мое, не плачь, сирота! Вот, играй на здоровье!
Сергей ушел в сени, сунулся на постель, закрылся с головой. Он не плакал. Злоба и негодование жгли сердце. Не в первый раз его обижали, отбирая то игрушку, то лакомый кусок, стоило Осипу потребовать. Но так горько еще никогда не бывало. Лежал лицом в подушку, сжимая кулаки, и шептал:
— Ужо вам, сучьи дети!.. — самое злое слово, какое знал.
Не помнил, как кончился день, — все лежал, отвернувшись к стенке. Брыкнул пытавшуюся утешать Ненилу, отпихнул ее руку, когда снова пришла с каким-то куском. Горе и обида затопили душу. Так и заснул без слез, сжавшись, как-то одеревенев.
Читать дальше