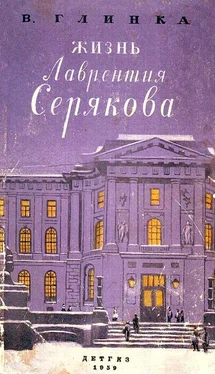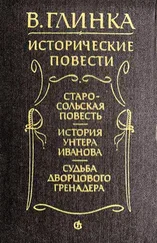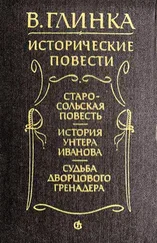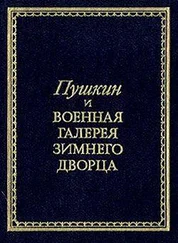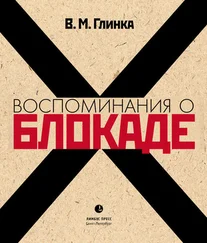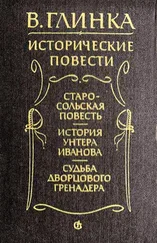— Приходите пораньше в воскресенье, пообедайте у нас, пожалуйста… Сегодня мы двух слов с вами не сказали… — и крепко пожала ему руку.
А в субботу, когда Лаврентий после вечера, проведенного на Озерном, собирался ложиться спать, к нему вошел явно взволнованный Кюи.
— Мне нужно сообщить вам известие, которое, наверное, вас очень расстроит… — начал он, краснея и смотря в сторону.
— Что такое? Случилось что-нибудь у Недоквасовых? — встревожился Серяков.
— Нет, но скоро случится! — уже совсем трагическим голосом отвечал Наполеон. — В следующее воскресенье Ольга Алексеевна выходит замуж, и вас просили быть гостем на ее свадьбе.
Лаврентий постарался скрыть охватившее его волнение и растерянность.
— За кого же и отчего так спешно? — спросил он.
— За своего прежнего жениха, Александра Петровича, — отвечал Кюи. — Представьте, в среду он явился к Недоквасовым без всякого предупреждения, прямо с дороги, какой-то словно выгоревший весь, лет на десять старше, чем был… Он все лето лечил холерных в своем родном городе, а теперь получил место в Туле и приехал вновь просить Оленьку выйти за него замуж… От отца своего привез ей письмо — просит о том же… А у него самый кратковременный отпуск — всего две недели… — Тут Наполеон взглянул на Серякова и забормотал виноватым голосом: — Мне, право, так тяжело, любезный Лаврентий Авксентьич, потому что это я ввел вас в их дом… А вы, сами не замечая, может быть, и почувствовали что-нибудь… этакое…
— Ничего, ничего, не беспокойтесь, Наполеон. Я все понимаю, — отвечал Серяков.
Кюи взглянул еще раз ему в лицо и поторопился уйти, сказав, что скорее должен ложиться — завтра ему, будущему шаферу, предстояло немало хлопот.
Оставшись один, Лаврентий потушил свечу, распахнул окно и сел на подоконник.
Сейчас, когда узнал, что Оленька для него навсегда потеряна, когда почувствовал такую острую боль, что едва скрыл ее от Наполеона, он вдруг понял, что, видно, и вправду полюбил. Весь мир отступил куда-то, осталась только эта боль, навалившаяся непомерной тяжестью, от которой некуда было уйти.
И снова клял свою солдатскую долю, что лишала его даже права на мысли о любви, о женитьбе… Ведь недаром им так хорошо было вместе и с каждым разом все лучше. Видно, и Оленьке он был ближе других, верно и она, зная все о его положении, не давала воли своему сердцу… Неспроста этот лекарь сейчас приехал — наверное, написал ему тот студент, чтоб поторопился, а то навек потеряет ее…
Серяков смотрел в темноту безмолвного двора, на крыши домов, уходившие вдаль, на звезды и не видел ничего, кроме Оленьки, такой бесконечно милой и желанной. В первый раз за много лет его искусство, матушка, академия — все, чем жил, о чем постоянно думал, перестали существовать, всего его захватило горе, боль и гнев на свою судьбу.
И эту ночь и следующий день Лаврентий то сидел на окне, то ходил из угла в угол, то ложился на кровать в своей комнате. Не открыл на звонки Антонова — только он один и мог так долго звонить у двери, присланный обеспокоенной отсутствием сына Марфой Емельяновной. Но никого не хотелось видеть. Нужно было побыть одному, скрыть от всех то, что чувствовал.
Поздно вечером Кюи постучал к Лаврентию, передал запечатанный конверт и, ни слова не сказав, поспешно ушел. Серяков развернул набросанную карандашом, видно наспех, записку.
«Лаврентий Авксентьич! Я знаю, что виновата перед вами. Верьте одному — вы мне были как родной человек с самого первого взгляда. Вы, наверное, это сами заметили, потому что я не умею нисколько притворяться. Я думаю, если бы мы еще ближе познакомились и вы сочли меня достойной, я не посмотрела бы ни на что и ждала бы вас, сколько нужно, хоть годы. Но А. П. приехал… Он ни в чем передо мной не виноват, я была к нему несправедлива. Простите меня и поверьте, мне самой сейчас нелегко. Но иначе поступить не могу. Желаю вам счастья и знаю — вы будете большим художником.
О. Н.».
«Видно, вчера Кюи все-таки что-то заметил и рассказал ей», — подумал Серяков.
И опять он запер двери, дунул на свечу и зашагал в темноте по комнате. Эх, доля проклятая! Ведь чувствуй он себя полноправным человеком, не держи себя все время на тугом поводу, — стал бы чаще видеть Оленьку и, может, осилил бы этого Александра Петровича… Но она-то не виновата перед ним, не виновата, как Настенька… Добрая, благородная душа, сама пишет, что ждала бы его сколько нужно… А вот и не пришлось ждать… До чего же все похоже на «Белые ночи», просто удивительно! Недаром так было близко обоим, так брало за душу… Только одного и Достоевский не придумал: все-таки его мечтатель — человек свободный. Но и подневольный солдат при всей нынешней боли не жалеет, что встретил Оленьку…
Читать дальше