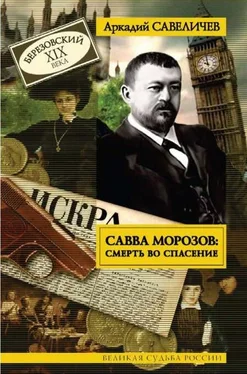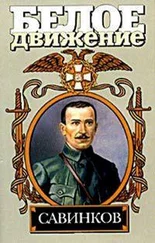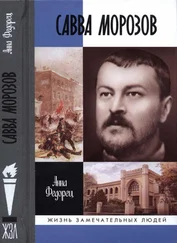Но это внутреннее бурчание ничуть не мешало ему идти вперед за Костенькой Станиславским. Поспешно и благодушно, надо сказать.
Дамские голоса из‑за ширм, что ли, к благости взывали?
Семейство купцов Алексеевых числилось, по привычке, в первой московской пятерке, но позиции уже сдавало. Кто в военные подался, кто в театралы. Костя, сынок, на которого возлагались такие купеческие надежды, отпал, как ранневесенний, неожиданным морозцем прихваченный лист. А чего было ожидать?.. Не в родовых лавках, где ковалась деньга, время проводил — в прокисших шубами театрах, где нажитая отцами деньга тратилась. Не то чтобы загуливал — так, сквозь пальцы текло. Ведь что такое «театр»? Содом и Гоморра. Недалек был от истины детский дружок Саввушка, когда по нынешним летам бордельчиком все это называл. Одних девиц, прости господи, не сосчитать. А есть еще и мужики, которым поесть да попить — ой-ей-ей!..
С тринадцати лет по театрам стены отирает; еще раньше той полудетской поры и Саввушка Морозов с ним спознался — в Купеческом клубе на детских балах, где мамаши загодя им невест присматривали. Да просмотрели купчихи-раззявы! Саввушка какую‑то присучальщицу от двоюродного братца увел, Костенька в полухолостяках до сих пор мается. Мода такая пошла — на гражданских жен. Купцы и раньше на стороне тешились, но не столь же открыто.
Конечно, угомонился маленько Костенька. При молодой и раскрасивой присучальщице поначалу крепкой суровой ниткой присучиллся и Саввушка. Но ведь природа, природа! Хоть алексеевская, хоть и морозовская. Не все же в Орехове сидеть, тем более что главная контора еще предсмертным повелением отца была переведена в Москву, под бочок главной пайщице Марии Федоровны. Повод! Зинаидушка, которую свекровь иначе как Зиновеей и не называет, детками вроде бы обросла, дачи по всей округе поустроили, на Спиридоньевке боярские хоромы завели — есть где разгуляться. Один на даче или в ореховском дому — другая со всеми чадами в Москве; один в Москве — так другая или в Усадах, или под Звенигородом, в Покровском, со всем своим домашним и придворным окружением. Ну, встретятся, чтоб в очередной раз пузико надуть, а дальше? Купец-холостяк, фабрикант богатенький; дама свободная, тоже не бедненькая, на которую немало движимости и недвижимости записано.
Женское чутье? Вздыхала, конечно, спиридоньевская затворница, в отсутствие мужа слоняясь по боярским хоромам. Ой ли, только ли театрами муженек увлекается?
Однако если таким манером и вздыхала хозяйка роскошного дворца на Спиридоньевке, так она на этот разок ошибалась. Савва Тимофеевич действительно в театре пребывал — в «Эрмитаже». Костеньке подфартило из заштатного клуба в театрик перебраться, хоть и в плохенький; дружок Саввушка, отдыхая от ситцев, нанок и миткалей, от него не отставал. Не все же на счетах брякать. О, не те времена, не отцовские! Одет всегда на английский манер, с иголочки, да при тугом‑то портмоне! Как не посидеть в директорской ложе? Если можно, конечно, назвать ложей обшарпанный закуток, маленько прикрытый бархатцем.
Купцу да не заметить с первого взгляда: промотал отцовские денежки Костенька. Увлекается, слишком уж увлекается. Который раз потный лоб утирает; духотища в этом театрике, арендованном у ловкого на руку Корша. Но не только от полноты чувств потеет директор — о вентиляции здесь и не слыхивали. Какова аренда, таков и комфорт. Купцам Алексеевым пора бы это знать.
Но чадо Константинушка и родовую фамилию уже сменил, как в воду с крутояра богатого в гнилой омут бросился: Станиславский! Такой, мол, и есть, под польский, мол, орден, знайте — и не замайте!
Но ведь у Станиславского‑то, самого низшего российского ордена, все‑таки четыре степени. На какой он степени, купецкое чадо Константинушка? Судя по обшарпанным, гнилым стенам, на четвертой еще, самой зряшной. Без денег‑то, давно промотанных, какая честь?
Сидя рядом с ним в ложе, которую разве что со смешком можно назвать директорской, Савва Тимофеевич не за царя Федора Иоанновича переживал — этого великовозрастного сынка купецкого. Ах Костя, роду Алексеева! Тебе самое время о бабах думать, о той же пышнотелой Лилиной, которая за кулисами от тоски сохнет, а ты в утеху Москвину на собственных щеках слезы размазываешь! Непорядок, право, непорядок.
Но ведь и сам‑то Савва Тимофеевич в душе хитрил. Слезы он не мазал, нет, но думал о том же, о сути бабской, пускай и под другим именем… Скажем, Ольга. В укор Косте, немножко с циничным смешком: «О, Ольга, озолочу, ежели что!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу