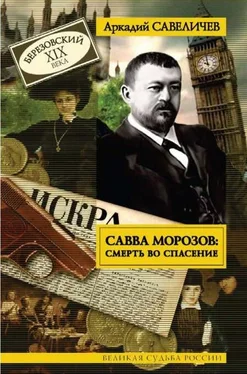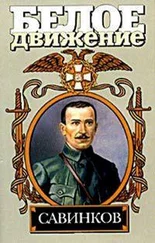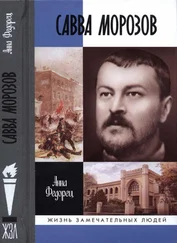Аудитории московской альма-матер догорали последними огоньками своей блестящей, чуть ли не легендарной эпохи. Истинно не было более родного дома для самого последнего шалопая. Не для экзаменов же взбегали по лестницам — для дружеских встреч. Наверх из вестибюля вели роскошные чугунные лестницы, с огромным пролетом в несколько светов. На них оживленные группы безмундирных недорослей. Здесь за десять минут можно было обменяться сотней рукопожатий, покричать на сто голосов — от интегралов до вчерашней выпивки, от изобретения водки всеми любимого профессора Менделеева до красавицы Агнессы, на которую молился весь университет. Юное, рыжекудрое божество, застрявшее где‑то на первых курсах. Молитесь на здоровье. коль ничего другого не остается! Агнессу истинно по-купечески заграбастал Савва Морозов. Прошли времена, когда его прельщала какая‑то Севастеюшка. У Агнессы все в разукрас — и рыжие кудри, и румянец во все щеки, и голубизна глаз такая, что можно только сокрушаться: «Неужели я когда‑то грязно-карих любил?»
Она отсыпалась от вчерашнего, и не оставалось ничего другого, как слушать на середине лестницы велеречивого правоведа Амфи. Он был в своем амплуа — вещал:
— Господа! Когда‑то были Грановские, Соловьевы, а что теперь? Нет даже плаксивого Некрасова. Забывается и Алексей Толстой, которого мы на первых курсах обожали. Почему? А по сему: «Двух станов не боец, а только гость случайный». Гость, господа! Салтыков, он же Щедрин? Надоели его Иудушки. Вы слышите: остается единственный, Суворин! Да, господа. Этот не будет как Лев Тихомиров, кумир народовольцев, стало быть, и наш недавний кумир, писать просьбу о помиловании. Только Суворин! Вот я на прошлой неделе имел честь с ним ужинать в «Славянском базаре» — он по делам был в Москве.
Савва похохатывал, слушая эту балабонь, а уже, кажется, закончивший медицинский курс заскочивший в университет по старой привычке долговязый доктор Чехонте ему ехидненько поклонился:
— Да-с? Я тоже хочу выкушать рюмочку с господином Сувориным. Не возбраняется?
Сбитый с толку Амфи убежал куда‑то наверх, а Савва, пожимая руку доктору Чехонте, совсем развеселился:
— Нет, на сегодня хватит! Мы, шалопаи, идем в разгул. Ты примкнешь к нам, Антон?
Вид у доктора был усталый. Он по своему обычаю похмыкал:
— Какие разгулы! Я только что из больницы. Семь дел сразу ворочу, а в кармане все равно ни шиша. Не обижайся, Савва. Ты же знаешь: на чужие не шикую.
— Жаль, Антон. Надоел мне университет. Да и вообще все надоело. Как, думаешь, не загуляюсь под такое настроение?
— По тебе не скажешь, Савва. Лик у тебя здоровый, да и хохот. Поверь мне как доктору.
— И доктора ошибаются.
— Вот-вот. Я с тем и бегу к своему медицинскому авторитету. Случай у меня больно тяжелый.
— Уж не к Богословскому ли?
— Ну да! Он меня под медведя положит. Нет уж, к своему профессору. Богословского ты рогожским приятелям, особенно тугобрюхим, порекомендуй.
И этого наверх унесло, как в прорву какую. Все тут с ума посходили, а особо на медицинском факультете. Истинно, подавай им Богословского.
В профессора не вышел, давно бы за пьянку выгнать надо, но без него и факультет не факультет. Был Богословский — эта притча во языцех! — несомненно умен — тем тяжелым, мутным, заплывшим водкою, но находчивым практически и не лишенным грубого остроумия циническим умом, что свойственно русскому полуинтеллигентному алкоголику. Забытую науку он глубоко презирал, заменив ее совершеннейшим знанием «темного царства», в котором практиковал. Особенно среди рогожских старообрядцев. Чувствовал себя в некотором роде ветеринаром для двуногих и лечил воистину ветеринарными средствами. Нравы и натуру купеческую изучил насквозь. Был уверен, что пациенты — купцы — какая‑то особенная человеческая порода, даже и болеющая‑то не в пример прочим, на особинку.
Слава о нем ходила по Москве, и практики хоть отбавляй, но от визитаций вне Рогожи этот оригинальнейший врач уклонялся, заявляя с откровенным цинизмом:
— Приношу пользу только купцам и духовенству, да-с. Пациент прочего телосложения от моих лекарств должен околеть. Да-с!
Но купечество Богословского обожало, потому что хоть и университетский, а не гордый. Другого врача пригласи полечить от «дурного глаза» или «выгонять утень» — он обидится и на смех поднимет. А Богословскому можно было даже сообщить, что больному «сполох выливали»: ничего, под рюмочку примет с самой серьезной рожей, поймет и даже похвалит. Уж на что родитель, Тимофей Саввич, деловит и обстоятелен, а тоже попросил сынка: «Приведи вашего Богословского. Меня самого об этом просит владимирский рыбник Окулин». Родителю не откажешь — позвал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу