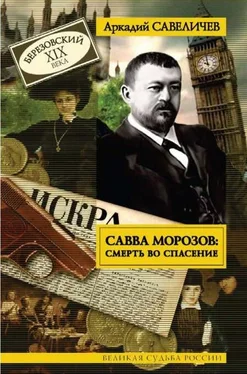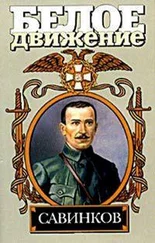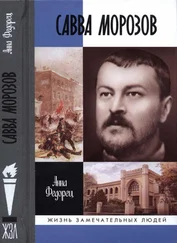— Вы ускользаете от меня!
— Помилуйте, вы подминаете меня!
— Я как под горячим утюгом.
— Я сам утюг. Стоеросовый.
Жарко даже в ночи. Но ведь в этом просторном саду немало прохладных скамеек, уютных беседок, искусственных гротов. Ах, Шехтель, лукавый Шехтель! Самое время поругать игривого архитектора, но ведь славное дело — закончить танго в совершеннейшей тиши? То ли упились пожарные музыканты, то ли сгорели их медные трубы, а может, из труб, как и из касок, пьют сейчас шампанское? Софиты отключены, пожалуй, и электриков разобрали по рукам. А чего ж — молодые и здоровущие бугаи, постегай их только женским игривым кнутиком. Говорят, секта такая есть, просят бабу: «Лупи меня, пока я тебя!..»
Но ведь лупят‑то — по спине, по спине! — не сыромятным кнутищем, а женской потной ладошкой. Под милый шепот, под самый нутряной шепоток:
— Ах Савва!.. Почему не судьба — вечно быть с тобой?
— Да ведь вечность — это скука. Да, называемая супружеством.
— Гадкий, гадкий! Что вы со мной делаете?..
— То и делаю — российское народонаселение. Кто о нем позаботится, кроме нас с тобой?..
Слезы. Опять женские коварные слезы!
Их надо вытереть ладошкой, только и всего. Назавтра они хоть вспомнят ли друг о дружке? Больше того, признают ли — с кем так сладко танцевался танец пьяных моряков и заморских проституток?
Оно и хорошо, если слукавит занудная память. Разве упомнишь все, что случается в грешной жизни?..
Глава 5. Горькие сладости
Они были давно знакомы — еще с Нижегородской выставки и поездки к разбойному Бугрову, — но истинного знакомства, не говоря уже о дружбе, не получалось. Хотя Савва Морозов и любил всяких экзальтированных людей. Но тут было уж слишком! Смазанные сапоги, голубая косоворотка, неизменный шнурок-поясок, длиннющие космы до плеч, показная угловатость и в жестах, и в речах — хватало ему театра и у Костеньки Станиславского. Жизнь все‑таки не театр. Одно дело — стройка или, там, фабричный цех, и совсем другое — улица городская. Ну, ходит граф Толстой в сапогах и своей неизменной «толстовке», но мещанину‑то ни к чему так опрощаться. И так из простых никак не вылезет. Одна фамилия чего стоит — Горький! Алексееву переродиться в Станиславского еще куда ни шло, а Пешкову?
Черногорец Николай передал, что тут в его отсутствие был некто «Горький» — дылда и разбойник, конечно. Грозил опять как‑нибудь наведаться.
— Это мине‑то гр-розить?.. — хватался он за кинжал.
Да и мануфактур-советнику всякие «горькие» были вроде бы не ко фраку. Само собой, фрак он надевал при высоких визитах, но и английский сюртук, и пошитая французом «тройка» не снижали его лоска. Он‑то, в отличие от всяких «горьких», помнил свое крепостное происхождение, и хоть от дворянского звания отказывался — купеческую марку держал. Всюду вхожий приметный московский барин. Что, «купеческий воевода», как обозвал его этот Пешков, в одночасье ставший Горьким? Пожалуй, есть немного.
Властолюбие, решительность, проницательность — мог бы нижегородец и еще кое‑что похлеще подметить. Как без того жить среди Бугровых и разных хамоватых подрядчиков! Уступи на мизинец — руку напрочь оторвут. Нет уж!.. Сумел, сумел безвестный литератор, живущий на медные пятаки, заглянуть в душу миллионера: верно, не только о своей личной выгоде печется предводитель московского купечества. Надо блюсти интересы сословия. Не грех и порадеть за общее дело.
Мануфактур-советнику Морозову нравилось, что нижегородец, слоняясь по Москве, не ищет его покровительства. А Костенька Станиславский восторженной пеной исходит: «Чехов, да вот теперь Горький — их к театру новые стены притянули! Потому что и слово их — новое!» Мануфактур-советник, да ко всему прочему и один из директоров театра, читал и «Чайку», и «На дне». таким чтением не обольщаясь. Иное дело, повозиться с обустройством всех этих дамских «чаек» и московских бродяг. От нечего делать Савва Тимофеевич занимался декорациями — опять на денек сбежал из Орехова в Москву — главный устроитель морозовских фабрик, он и театр по давней привычке, самолично, устраивал. Метр в его руках ходил, как купеческий аршин. На этот раз он не переодевался — ведь не малярной же кистью размахивал, — но все равно известки на рукавах понабрал. Задние стены были плохо выкрашены, пачкались. Остановил его беганье по сцене вполне резонный смешок:
— Савва Тимофеевич, отец родной — остолопы вкруг вас.
Не разгибаясь, он гневно бросил рабочим:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу