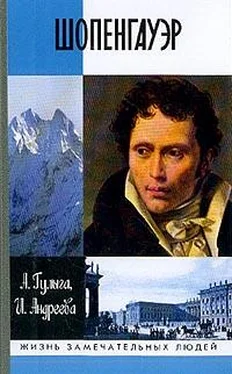Уже в «Рождении трагедии из духа музыки» Ницше, понимая музыку, по Шопенгауэру, как непосредственный язык воли, подчеркивал в ней полноту жизни, воплощаемой в символическом созерцании «дионисической всеобщности», которой затем аполлонический художественный дар придает высшую значительность. Дионисийское искусство убеждает в радостном, а вовсе не в печальном существовании, и «искать эту радостность мы должны не в явлениях, а за явлениями» (41. Т. 1. С. 120-121).
Но через 11 лет зазвучали открыто критические оценки, а в итоговой книге «Ессе homo», вспоминая о своей первой книге, Ницше станет утверждать, что Шопенгауэр «ошибался во всем» и что «несвоевременность» первой книги, созданной самим Ницше, выражается в том, что от нее «отдает трупным запахом Шопенгауэра» (41. Т. 2. С. 729), у которого «рассудочность» и «разумность» любой ценой являются опасной силой, подрывающей жизнь. В конце концов Шопенгауэр как «носитель вырождающегося инстинкта, обращенного с подземной мстительностью против жизни», очутился в хорошей компании: Ницше соединил вместе его философию, христианство, отчасти Платона и весь идеализм (там же. С. 730).
Прославляя жизнь, Ницше весь мир представлял как кванты воли к мощи (у нас переводится: воля к власти, что применительно к природным явлениям воспринимается неадекватно. Die Macht имеет синонимы: власть, сила, мощь, влияние. Есть исследователи, которые понимают Der Wille zur Macht, как «волю к воле»). Мировая воля к мощи и воля к жизни выражает метафизику Ницше. Для него мир есть единый процесс становления, в котором все его члены являются центрами динамической энергии этой воли.
Волю к мощи, свойственную и человеку, Ницше понимает в полном противоречии с Шопенгауэром. У Шопенгауэра воля подобна всаднику, пришпоривающему коня (человека), у Ницше смысл жизни реализуется путем влечения (воления) человека к могуществу, способному исправить его неразумность, то есть человек ради самореализации свободен форсировать волю, стремясь к могуществу, а вовсе не гасить ее, как учил Шопенгауэр. Отрицание воли к жизни, считал Ницше, есть «приговор осужденных» (41. Т. 2. С. 576).
Известный английский историк философии Ф. Коплстон, обращаясь к важному в ницшевской метафизике тезису о «вечном возвращении одного и того же», отмечает повторение в каждом цикле и физических, и социальных событий, а также, собственно, и судьбы человека в его одиночестве и несчастьях, что сопрягается с тезисом Шопенгауэра о том, что все, что могло произойти, уже произошло, а также с учением о предопределении и даже с принятым им мифом о метемпсихозе. Но Ницше пытался укрепить идею вечного возвращения не метафизически, а с помощью эмпирических гипотез, например, что идея вечного возвращения базируется на признании бесконечной последовательности идентичных космических циклов, в которых бытие предстает как становление; человечество — смысл планеты, указывает вектор эволюции к сверхчеловеку, предопределенной в рамках каждого цикла; что закон сохранения энергии требует вечного возвращения и пр. (см.: 2. С. 45-53).
Не принимал Ницше и шопенгауэровский пессимизм, ведущий, по его мнению, прямиком к декадансу и нигилизму. Он возражал против шопенгауэровской этики сострадания и аскетизма: «...сострадание отрицает жизнь, оно делает ее более достойной отрицания, — сострадание есть практика нигилизма... Этот угнетающий и заразительный инстинкт уничтожает те инстинкты, которые исходят из поддержания и повышения ценности жизни... сострадание увлекает в ничто!.. Шопенгауэр был враждебен жизни — поэтому сострадание сделалось у него добродетелью... Исходя из инстинкта жизни, можно было бы поискать средство удалить хирургическим путем такое болезненное и опасное скопление сострадания, какое представляет случай с Шопенгауэром (и, к сожалению, весь наш литературный и артистический decadence от Санкт-Петербурга до Парижа, от Толстого до Вагнера)...» (41. Т. 2. С. 636).
Ницше соглашался с тем, что страдание — необходимая составляющая жизни. Оно необходимо и благотворно. Он предпринял великий поход на мораль, объявив о необходимости «переоценки всех ценностей» прежней истории, поскольку ее мораль, как он считал, покоится на лжи. Речь шла о саморазрушении твари в человеке ради самосозидания творца (сверхчеловека), речь шла о сильном человеке, способном сказать «нет» всему общеобязательному и общезначимому, самолично определять меру и границы собственного горизонта. Средством для осуществления этой задачи Ницше выбрал страдание.
Читать дальше