Ленуар рассмеялся:
— Ты фантазер! Такого порядка быть не может. Всегда у одного будет больше, у другого меньше, один будет сильнее, другой слабее. Всегда один будет сидеть на шее другого. Ненавидеть нужно и можно не порядок, а именно людей!

— Тех, кто забрал твою долю?
— Нет, не только их. Ненавидеть нужно две стороны: более сытых — тех, у кого ты хочешь отобрать часть благ для себя; и менее сытых — тех, которые хотят отобрать часть благ у тебя самого.
— Значит, твоя ненависть к сытым — это не ненависть, а только зависть, — с грустью сказал Даррак. — А твоя ненависть к голодным — это не более чем жадность…
И он снова лег на свою койку.
Еще несколько раз возникали подобные споры. Это были схватки двух озлобленных одиночеством и бездельем зверей разной породы, запертых в одну клетку. Иногда схватки возникали в результате того, что Даррак вдруг принимался мечтать вслух. Он рассуждал о том, что рано или поздно рабочий люд, руководимый настоящими вождями, не из продажных мещан и не из краснобаев-адвокатов, а из своих, синеблузников Сент-Антуана, придет в центр Парижа. Они возьмут за глотку всех, кто живет чужим трудом, и заставят их либо сдохнуть, либо работать вместе с собой. Они займут ратушу и будут оттуда править Парижем. А там, глядишь, то же самое проделают и лионские ткачи, и докеры и матросы Марселя…
Мечты Даррака действовали на Ленуара, как красный платок на быка. Он вскакивал и, брызжа слюной, ругал своего сожителя, готовый броситься на него с кулаками. И, если бы Даррак не был на голову выше Жана, может быть, тот и кинулся бы на своего противника.
Но, по мере того как приближался срок освобождения, заключенные успокаивались. Каждый был занят своими думами.
Машина снова поглотила все помыслы Ленуара.
По выходе из тюрьмы Жан опять искал работу, но напрасно: работы не было, хотя промышленность и росла. Внешнее успокоение сороковых годов повлекло за собой развитие промышленности. Паровая машина начала занимать надлежащее место и во Франции — вместо нескольких десятков машин, работавших во французской промышленности в начале столетия, теперь уже использовалось около пяти тысяч двигателей общей мощностью в сорок тысяч лошадиных сил.
Распространение станков в ткацкой промышленности было огромно. Сотни новых предприятий с тысячами веретен возникали в разных городах. Крупные промышленники и работавшие с ними об руку банкиры зарабатывали груды золота на труде привлекаемых к обслуживанию машин женщин и детей. А мужчины тысячами выбрасывались на улицу.
Наряду с этим число приходящих в город обезземеленных крестьян становилось все больше. Население промышленных городов за десять лет выросло на двадцать процентов. Крестьянин, задавленный налогами и ограбленный крупными землевладельцами, убегал из деревни и здесь, в городе, становился в ряды огромной армии безработных.
Мужская рабочая сила становилась все менее нужной. Пар заменил уже более миллиона человек. Полтораста тысяч безработных бродило по улицам одного только Парижа.
Небольшая кучка промышленных магнатов диктовала свои условия мелким производителям и фабрикантам и стоящей за их спиной армии рабочих. Заработок снижался, трудовой день неизменно удлинялся. Призывы газеты «Реформа» к необходимости вмешательства правительства в отношения промышленников: монополиста и фабриканта, с одной стороны, и рабочего — с другой, оставались безрезультатными.
Строились и украшались отели, вымирали предместья. Одни слои обогащались, другие трудились или погибали в поисках труда. Лозунг «Обогащайтесь!» действовал вовсю.
Жан снова попробовал организовать артель, но на нее не дали разрешения. Тогда он сделал попытку работать один. С молотком и клещами он ходил по домам и предлагал чинить экипажи, посуду, газовую аппаратуру — все, что угодно. Но перед ним закрывали двери. Никто не хотел пускать к себе оборванного, бледного человека с лихорадочно блестящими глазами. А он все бродил и бродил по темным переулкам окраин, среди высоких серых домов, где, как в каторжных тюрьмах, томились голодные, полураздетые, истощенные непосильным трудом представители четвертого сословия — «нелегальной Франции».
Как ни избегал Ленуар посещения центрального Парижа, все же однажды вечером он очутился перед знакомой вывеской: голубой огурец и красный омар. Жан и сам не мог вспомнить, как попал сюда. Он шел, как лунатик, влекомый старой привычкой, — шел туда, где люди ели. Он так давно не ел! Втянув носом запахи, вырывающиеся из кухмистерской, Жан уже не нашел в себе силы отойти. Он заглянул в окно. За столиками, как и два года назад, когда он подавал здесь последний литр вина, сидели фабриканты. За стойкой в глубине зала расхаживал дядюшка Юннэ.
Читать дальше
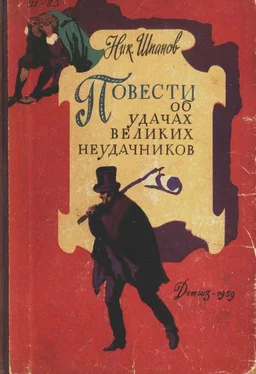

![Николай Шпанов - Поджигатели. Ночь длинных ножей [litres]](/books/26448/nikolaj-shpanov-podzhigateli-noch-dlinnyh-nozhej-li-thumb.webp)









