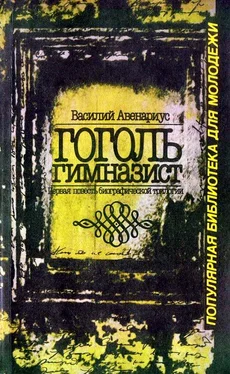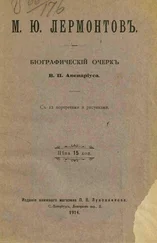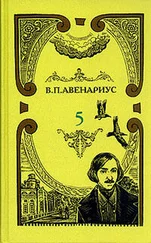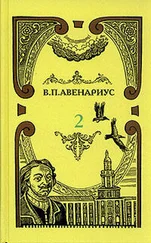Один Данилевский, знавший своего друга детства ближе, готов был ему поверить и участливо заглядывая ему в лицо, осведомился: правда ли это?
— Правда… — отвечал Гоголь, не поднимая глаз, в которых навертывалась снова непрошенная сырость. — Сейчас пришло письмо от маменьки… Однако пропусти-ка.
И схватив ворох книг, он без оглядки удалился из музея. Вслед ему поднялся общий ропот:
— Нет, каков ведь! Отец родной помер, а он хоть бы что, как с гуся вода, даже не прослезился!
— Не всякому, господа, дано заливаться сейчас слезами, — вступился за ушедшего Данилевский. — Он из тех людей, которые всякое горе свое замыкают внутри себя.
— Значит, скрытная, холодная натура!
— Скрытная, но не холодная. Чем скрытней человек, тем глубже он обыкновенного чувствует. Но он дорожит своими священными чувствами и не выносит их на базар, где всякий мог бы трепать их.
В справедливости этого замечания старейшего друга Гоголя, несколько минут спустя, убедился его новейший, но более зрелый друг, Высоцкий, когда пошел его отыскивать и нашел в спальне. Гоголь лежал ничком на кровати, уткнувшись в подушку. Всхлипов не было слышно, но спина его нервно вздрагивала.
— Полно, дружище, — тихо проговорил Высоцкий, успокоительно кладя руку на голову своего расчувствовавшегося друга.
— Да я ничего… я так… — отозвался Гоголь, не показывая, однако, лица.
— И отлично. Мне, видишь ли, надо в город; так не пойдешь ли ты со мной?
— Нет, не хочется…
— Ну, пойдем! В таких случаях не мешает проветриться.
Гоголь стал было еще отнекиваться, но Высоцкий настоял на своем и без труда выхлопотал затем у дежурного гувернера для себя и Гоголя двухчасовой отпуск в город.
Пора для прогулки стояла благодатная — конец апреля. Немощеные улицы Нежина, ранней весной и поздней осенью представлявшие непролазное месиво, настолько уже просохли, что наши два приятеля, засучив панталоны выше щиколки и перепрыгивая с одного сухого места на другое, довольно благополучно добрались до местного Невского проспекта — Московской или Мостовой улицы, единственной в то время замощенной, но не камнем, а бревнами, положенными поперек дороги и гулявшими под экипажными колесами по мягкому грунту наподобие клавикордных клавиш. Веявший в лицо свежий ветерок почти восстановил нарушенное душевное равновесие Гоголя, но фланировавшая взад и вперед по деревянным мосткам, вдоль ряда лавок, от угла Магерской улицы до базарной площади, праздная толпа местного «бомонда» своим беззаботным говором и смехом снова его взволновала.
— Уйдем отсюда куда-нибудь подальше! — сказал Гоголь, морщась, — эта чужая веселость для меня как нож к горлу; точно они издеваются надо мной!
— Куда ж идти? Разве на греческое кладбище? Там теперь должно быть чудесно: зелень уже распустилась…
— Пойдем: среди мертвых, может бьггь, отдохну душой от живых.
И они взяли путь через базар обходом на отдаленное, расположенное на другом конце города, греческое кладбище.
— Иди, брат, иди, я догоню тебя, — сказал Высоцкий, останавливаясь перед торговкой-еврейкой с яблоками, до которых, как знал он, Гоголь был большой охотник.
Но выбор съедобных еще яблок между массой гнилых, которые продувная дочь израилева старалась незаметно подсунуть молодому покупателю, потребовал столько времени, что, когда Высоцкий рассчитался с продавщицей, приятеля его и след простыл. Ускорив шаг, он нагнал его только на середине моста через реку Остер, отделяющую главную часть города от пригорода.
Опершись обеими руками на деревянные перила моста, Гоголь так упорно загляделся вниз, в протекавшую под мостом воду, что не расслышал даже шагов подходящего к нему Высоцкого. Тот с недоумением перегнулся также через перила, чтобы узнать, что могло так приковать внимание его друга. Но чрезвычайного там ничего не оказалось, разве лишь то, что Остер, в летние месяцы высыхающий до состояния чуть не ручья и покрывающийся тогда зеленой «ряской», недавно вскрывшись от ледяной коры, был еще так многоводен, что на нем разъезжали даже три-четыре лодки.
— Чего ты там не видал, дружище? — прервал Высоцкий размышления друга.
Гоголь не переменил положения, не повернул даже головы.
— А вот соображаю, — отвечал он, — если прыгнуть отсюда с моста — можно ли потонуть, или нет?
Говорил это с таким оттенком безнадежности в голосе, что Высоцкий слегка даже всполошился.
— При желании можно потонуть и в луже, — отозвался он тем саркастическим, убежденным в своей непогрешимости тоном, который на других пансионеров оказывал всегда неотразимое действие, — стоит только окунуться лицом и задержать дыхание, пока не захлебнешься. Но ты-то, Яновский, и здесь, в реке, не потонешь.
Читать дальше