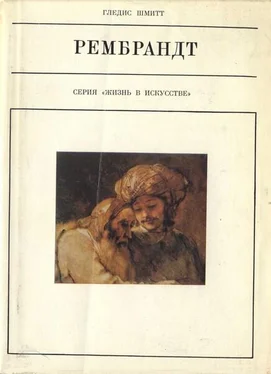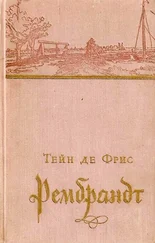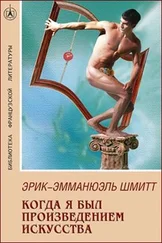Художник встал с кровати и, с трудом передвигая побелевшие отечные ноги, испещренные сетью вен, побрел в мастерскую, где, к счастью, было пусто: трое его домашних ушли вниз, в гостиную или кухню, как только убедились, что он уснул. Нет, он пришел сюда не смотреть картины — они тоже дышат смертью. Он пришел лишь затем, чтобы обмануть себя безумной надеждой: ему казалось, что, если он встанет там, где стоял в тот вечер со спущенным до щиколотки чулком, он сумеет опровергнуть бесповоротное и вновь почувствует себя в отчаянных объятиях сына.
Между ним и черным отвращением, которое грозило превратить в соблазн каждый нож, каждое окно верхнего этажа, каждый пузырек со снотворным, стояло только одно — надежда вынести из всеобщего крушения эту вовеки незабвенную минуту, когда Титус обнял его. Рембрандт сел за стол и почувствовал, что ему страстно хочется написать все, как было: сына и себя самого, с печатью обреченности на лицах прижавшихся друг к другу на грани смерти. Он уже представлял себе каждую деталь: перед ним вставал и образ только что погребенного мальчика с его исхудалыми руками и большими лихорадочными глазами, и свой собственный опустошенный образ, отраженный в зеркале. Но разве это можно написать? Написать это — значит совершить в глазах окружающих такой же постыдный поступок, как прогулка нагишом по улице. Кто бы — Арт, Корнелия или Тюльп — ни увидел это, все с полным основанием заключат, что скорбь помутила его рассудок. Если он хочет написать это спокойно, не приводя в ужас семью, не вызывая у домашних опасения и не вынуждая их к унизительным заботам о нем, ему нужно преобразить это так же, как преобразил он видение Абигайль де Барриос, которое пришло к нему из тьмы лабиринта. И тайный ангел, подсказавший художнику сюжет «Руфи и Вооза», опять пришел к нему на помощь, предложив для его последнего безмерного горя личину не менее надежную, чем та, что прикрыла его последнюю невозможную любовь. Блудный сын — да, да, именно так. Он скажет всем, что пишет «Возвращение блудного сына».
В тот же вечер Ребекка разыскала для него соответствующее место в Евангелии от Луки, и он долго сидел у горящего камина, снова и снова перечитывая текст, потому что слова писания — и не столько слова, сколько их торжественный ритм — становились в его отупленном полудремотном мозгу яркими сочными тонами: трепетным алым, белым с примесью земли, полосой чистого желтого, охрой, рыжевато-коричневой, как львиная шкура, и кое-где тронутой пятнами золота.
На другой день он попробовал взяться за наброски, но у него ничего не получилось: рука дрожала, образы расплывались в мозгу, бумага затуманивалась перед больными глазами, и художник поневоле отложил рисунок в сторону, сказав себе, что слишком поторопился. Потом он увидел Корнелию, которая отчаянным усилием воли заставила себя взяться за повседневные дела, и вспомнил избитую поговорку о том, что утром после похорон еще тяжелей, чем на похоронах: глаза у девочки покраснели, запавшие щеки покрылись пятнами, она то и дело подносила руку к голове и закусывала нижнюю губу. Она отправилась наверх, чтобы основательно прибрать в отцовской спальне и хоть чем-то отвлечься. Рембрандт последовал за ней, но когда он вошел в комнату, Корнелия не работала: она опустилась на колени у постели, а щетка и полное ведро стояли рядом. Голова ее склонилась, лицо было скрыто распущенными пышными волосами, а руки, такие же круглые, смуглые и красивые, как у матери, широко раскинуты на покрывале.
— Довольно, дитя мое, — сказал художник. — Слезы не помогут.
— Я не плачу, отец. — В подтверждение своих слов она подняла голову, повернула лицо, и Рембрандт увидел, как сухо блестят темно-карие глаза дочери. — Я только думаю, знал ли Титус, что я любила его.
Художник вспомнил — он чувствовал, что Корнелия тоже вспоминает сейчас об этом, — тот злополучный обед, когда покойный пришел посидеть с ними за столом и помириться, а сестра уклонилась от его ласкового прикосновения. Он подошел, сел на край постели и стал гладить влажные спутанные волосы дочери.
— Конечно, знал. Не мог не знать. Пусть тебя это не тревожит, — успокоил он.
— Но откуда он мог знать? Ведь я так отвратительно относилась к нему.
— Неправда.
— Нет, правда, и ты сам знаешь это. Вспомни день, когда он был здесь с герцогом.
— Если даже он думал — в чем я сомневаюсь, — что ты настроена против него, то несомненно понимал почему. Он понимал, что ты сердита на него из-за меня или просто ревнуешь, зачем он ушел от нас и зажил своей жизнью. И он понимал, что ты любишь его, иначе ты бы и не ревновала и не злилась.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу