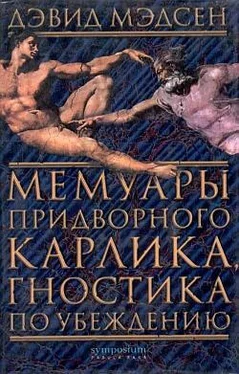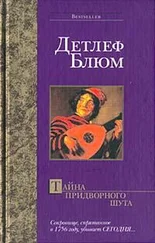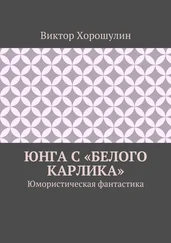– Назови своих сообщников, – тихо повторил фра Томазо.
– У меня их нет.
– Лжешь. Признай вину, и им не будет вреда.
– Тем, кого не существует, и так не может быть вреда и без твоих сомнительных гарантий.
Я услышал еще один удар и тихий крик боли.
– Признай обвинение. Вину не утаишь. У нас есть доказательства.
– Если вам известна моя вина и у вас есть доказательства, то признание мое не нужно.
Голос фра Томазо стал резок, словно натянутая сверх меры тетива.
– Ты тратишь мое время. Будет применен инструмент.
– Другого ответа я вам не дам.
– Боль поможет тебе передумать.
Даже сейчас, через столько лет, воспоминание о том, что последовало, доставляет мне нестерпимые страдания, – воспоминание словно ледяными тисками сдавливает мое сердце. Я пишу и знаю, что сейчас польются слезы. Огромная тоска как саван окутывает меня, и я не могу отбросить ее, да и не хочу отбрасывать, так как при одном воспоминании о том, что они стали с ней делать, я жду, чтобы моя душа была избавлена от новых страданий. В тот день в ткань моей души вонзился меч, и он все еще там, я чувствую, как его клинок, по-прежнему острый, движется в бесконечно малых пространствах между сочленениями.
Был применен инструмент. Работу выполняли два огромных безмолвных человека, которых ничего не волновало, кроме их жестокого дела: они были бесстрастны, словно смертельная болезнь. Голову ее оттянули назад, ей разжали зубы, нижнюю челюсть перевязали длинной лентой и из глиняного кувшина стали вливать в рот холодную воду. Лаура застонала, стала извиваться, задыхаться и захлебываться. Я видел, как ее горло, вены на котором налились кровью и начали пульсировать, перехватывали спазмы удушья.
– Назови имена своих друзей еретиков, – сказал доминиканец, убрав с нее ленту.
– Их… их… их нет…
Инструмент применили снова. Я не мог поднять глаз и посмотреть. Даже заткнув уши пальцами, я слышал, как ее рвет.
– Назови имена.
Молчание.
– Я не хочу причинять тебе страдания. Назови их имена.
И снова мучительные спазмы.
– Назови имена, и пытка прекратится.
Затем ей на стопу надели металлический браслет с острыми шипами с внутренней стороны. Браслет начали стягивать небольшим винтом с ручкой.
– Назови имена.
Под этим ужасным сводом раздался ее крик, и я увидел, как по сжатым пальцам ноги потекла кровь, свежая и горячая. Но Лаура молчала.
– Еще. Еще туже.
Жалобный, как звук рога, вой от боли. Фра Томазо глубоко вздохнул, и я увидел, что он подает палачам знак рукой.
– Допрос откладывается, – сказал он устало. – Будет возобновлен по моему указанию. – Затем монаху за письменным столом:
– Запиши, что «отложен». Он еще не закончен.
Госпожа Лаура неподвижно сидела в кресле, бессильно свесив голову.
– Ты мне больше не нужен, уродец, – сказал он мне. – Ты не обвинен. Но кое-кто с удовольствием тебя заберет. Встань.
Я поднялся на ноги. Я без отрыва глядел на желтое лицо, и сердце мое переполняла ненависть. Даже к женщине, называвшей себя моей матерью, я не испытывал такой ненависти, какую испытывал к доминиканцу.
Он сказал:
– Уведите его.
Когда, заломив руки за спину, меня потащили к двери, госпожа Лаура украдкой взглянула на меня; невероятно, но ее опухшие губы чудесным образом беззвучно произнесли единственное слово: «Магистр». Магистр!
Что она хотела этим сказать? Какой магистр? И где?
Магистр…
Затем я снова взглянул на милое, самое милое, потемневшее от боли лицо, и одна из камер в моем сердце наглухо захлопнулась.
1496 и далее
Libera, Domine, animam servi tui
Теперь моя жизнь совершенно изменилась. Этот «кое-кто», которому, по мнению брата-доминиканца Томазо делла Кроче, я мог пригодиться, оказался хитрым, жадным ублюдком (в обоих смыслах этого слова) по имени Антонио Донато. Он называл себя «маэстро Антонио» и утверждал, что связан родственными узами с флорентийской знатью, но на самом деле зарабатывал на жизнь тем, что кочевал по городам, какие только были готовы принять его, с балаганом уродов. Теперь я был членом этой избранной группы.
– Хм, – произнес он, с сомнением оглядывая меня с ног до головы, и его мертвенно-бледное лицо приняло недовольное и унылое выражение, – тебя не так уж много. Христу и Пресвятой Богородице только известно, как этот набожный говноед вытянул двадцать дукатов из меня за тебя.
– Двадцать дукатов? – эхом повторил я.
– Да. Обычно я плачу вдвое меньше.
Читать дальше