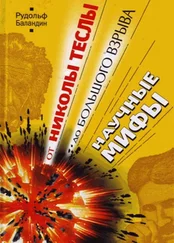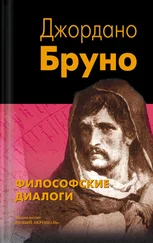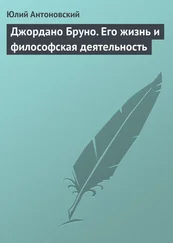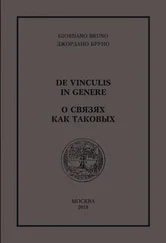Вдобавок была и есть могущественная организация, стремящаяся начисто вытравить оставшуюся по нему память. Папской властью всем католикам предписывалось сжигать еретические книги Ноланца.
Но книги Бруно разошлись по многим странам, выходили за пределы власти католической церкви, утаивались в частных библиотеках. Запрещенные папской цензурой, они стали цениться дороже и, как все запретное, вызывали особый интерес.
Всем издавна известно: если духовные владыки искореняют идеи, значит, не могут их победить идейно. Грубая сила — довод слабых разумом.
Сколько разочарованных Фаустов, не нашедших истины в богоугодных книгах, привлекала запрещенная нечестивая мудрость сатаны! А Ноланец, по слухам, знал искусство алхимии и тайные заклятья. Подобные знания пытались высмотреть в его сочинениях некоторые ловцы удачи. Возможно, такие люди невольно мешали истребить всякую память о Бруно.
Чем дальше от Площади Цветов, от Рима, от Италии, тем больше сохранялось сочинений Ноланца, тем заметнее ощущалось его влияние на философов, ученых, мыслителей. Во Франции католический священник Пьер Гассенди стал отчасти его последователем. Английский философ Джон Толанд через сто лет после смерти Бруно написал о нем и его учении две книги и перевел на английский его трактат, критикующий религиозные суеверия и мракобесие. В своих рассудительных письмах к прусской королеве Софии-Шарлотте Толанд нередко пересказывал идеи ноланской философии.
И все-таки со временем посмертный голос Ноланца звучал все глуше и глуше. Проходили, пролетали многие десятилетия, насыщенные драматическими событиями. Память о Бруно как бы погребалась под плотными напластованиями, погружалась все глубже в прошлое.
Свершалась история великих империй и крохотных государств, менялись времена и люди. Настала пора Просвещения. По Европе прокатилась волна революций, и на гребне ее возникла романтическая фигура Наполеона, переродившегося из революционного офицера в императора. Все весомее заявляла о себе великая Россия.
Время Ноланца становилось давней полузабытой историей. Книги его превращались в библиографические редкости, знакомые немногим специалистам. Личность его почти вовсе растворилась в тумане неясных слухов и домыслов.
Правда, сохранились отдельные рукописные и печатные экземпляры большинства его книг. Но многим ли людям было до них дело? Чаще всего вспоминали Бруно как комментатора все еще популярного Раймунда Луллия.
…Какое счастье для нас, что каким-то образом сохраняется из прошлого не только память о кровавых побоищах, о великих империях и не менее великих властолюбцах. Пока существует среди людей добро, мудрость и справедливость, останется возвышенная память о подвигах самопожертвования. А значит, останется надежда на обновление и возвышение человека.
Долго, очень долго не сбывалось пророчество Джордано о грядущем торжестве ноланской философии. Немногие мыслители признавали ее. Хотя среди них были великаны мысли — Галилей, Декарт, Спиноза, Лейбниц, — господствующими оставались другие представления. Когда в России во второй половине XVII века вышла «История философическая», то утверждалось там, будто Бруно «различные неслыханные мнения без основательных причин изложил».
Слишком часто историки — рабы традиционных взглядов и пересказчики наиболее популярных и признанных учений. Всегда ли помнят они: «Мнение более общее — еще не есть более верное»?
Бруно неожиданно был явлен миру в необычном облике — действующим лицом философского трактата-диалога. Молодой и уже известный философ Фридрих Шеллинг в самом начале XIX века выпустил книгу «Бруно, или О божественном и естественном начале вещей». Пожалуй, по художественным достоинствам книга уступала диалогам Ноланца. Но дух ноланской философии в ней сохранился. И даже поэтичность миросозерцания Бруно была близка Шеллингу, которому принадлежат такие строки:
Одну религию считаю я правдивой,
Ту, что живет в камнях и мхах, в красивой
Расцветности дерев; повсюду и всегда
Стремится к свету, в высь, и, вечно молода,
В провалах бездн и в высотах бескрайних
Нам открывает лик в извечных знаках тайных.
Она подъемлется до силы размышленья,
Где мир родится вновь, где духа воскресенье.
Все, все — единый пульс, единое дыханье,
Игра препятствий, пляска порыванья.
(Перевод Л. В. Луначарского)
С этой поры началось возрождение ноланской философии.
Читать дальше