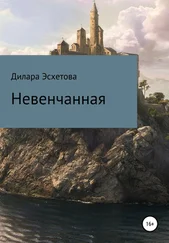— А меня даве на допрос забирали. Прямо с работы водили к уряднику.
— Господи… за что?
— Вчерась тут под балаганом человека убили. Вот смена выедет на-гора — всех тягать начнут.
— Ну а тебя-то за что?
— Я тоже дрался. Рази не видать? — И горькая ухмылка передёрнула его надувшуюся щёку.
— Ты тоже убивал? — обомлел Серёжка.
— Дурак! Подумай, сидел бы я тут с тобою рядом?
Кривясь сдвинутым на сторону ртом, Шурка рассказал, что произошло вчерашним вечером.
Назаровские балаганы представляли собой длинные одноэтажные дома, сложенные из дикого камня. Изнутри балаган по всей его длине разделяла перегородка, образуя две вытянутых кишками казармы. В каждой напротив входа стояла большая кирпичная плита, два стола, сколоченные из досок, под потолком у плиты вкривь и вкось тянулись верёвки, на которых сушили одежду — от нательного белья до портянок и той рвани, в которой работали в шахте. А дальше, по обе стороны от входа и до торцовых стенок, стояли двухэтажные нары. Артель, а это три-четыре десятка земляков, занимала обычно одну казарму.
Рязанская артель, куда Штрахов пристроил Шурку, держалась на шахте давно. Одни уходили, другие приходили, но костяк её, во главе с Ефимом Иконниковым, сохранялся много лет. У них была хорошая кухарка, с которой Ефим жил, хотя у него в деревне оставалась семья. Такое положение в посёлке считалось почти нормальным, недаром Донбасс называли “Невенчанной губернией”. Сезонники бывали оторваны от дома по полгода и больше, “от Покрова до Пасхи”, а другие уже и на лето не уходили в деревню, если семья без них управлялась обработать свой лоскут земли. Вот и находили тут временных жён, большинство из которых пребывали в положении временных постоянно: не с тем, так с другим. На этой почве разыгрывались свои трагедии. Разврат в шахтёрских посёлках был далеко не последней причиной, по которой коренные жители этих мест смотрели на работу под землёй как на позорное и безвозвратное падение.
Артель Ефима Иконникова считалась почти образцовой: преданная и умная кухарка (её мужа до смерти ушибло в шахте, и ей надо было одной кормить двоих детей), несколько опытных забойщиков из старожилов, строгий порядок в казарме… Кроме законных поборов шахтной дирекции — за недогруз вагонов, опоздания, примесь породы в угле, на церковь, — кроме общего котла, куда уходила часть зарплаты, которую выдавали талонами в хозяйскую лавку, Ефим ещё брал с каждого определённую мзду «на артель». Считалось, что на эти «обчественные» деньги куплены оловянные ложки и миски, керосиновые лампы, что висели у плиты над столами, да и керосин денег стоил. Вершиной уюта в рязанской казарме были часы-ходики, купленные Ефимом для всех — они висели близ входной двери, напротив плиты. Каждый без гудка мог знать, сколько уже натикало. Те же, кто занимал ближние у плиты нары, смотрели на часы, даже не поднимаясь с тюфяков.
За перегородкой казарму занимали тамбовские «дубинники». Часов у них не было. Да и кому на шахте нужны часы? Первый гудок в пять утра как рявкнет — вставай, второй гудок в шесть — выходи, а по третьему — в семь — уже начиналась работа. Перед ночной сменой то же самое: в пять, в шесть и в семь часов вечера орут железные петухи по всей округе. Часы-ходики были скорее забавой, от них веяло избой, чем-то домашним. Тамбовские расколупали щель в деревянной перегородке и по вечерам посматривали на них. Обнаружив такую нечестность (на любого артельного — ест ли он, играет в карты или, сняв нательное бельё, выискивает в нём паразитов — смотри сколько хошь, за это деньги не плачены) — рязанцы замазали щели глиной. Но тамбовские в другом месте проколупали перегородку и снова любовались чужими ходиками.
Вот тогда Васька Хрящ решил проучить их. Подобрал крепкий пруток, заострил его и вчера вечером, встав раньше других из-за артельного стола, затаился возле щели. Было около девяти часов, на улице почти стемнело, а в балагане подрагивали языки пламени двух керосиновых ламп, освещая стол, обедающих артельных и, главное, расписной циферблат ходиков.
Тут-то Васька и подловил кого-то из «дубинников». Едва за перегородкой послышалось шебаршанье, в щели мелькнула чья-то щека, глаз — он изловчился и пырнул туда прутиком.
За перегородкой кто-то взвыл, раздались возбуждённые голоса, матерные выкрики, затопали десятки ног.
— Чего это? — поднял голову от миски Ефим Иконников. Увидев растерянного, с застывшей ухмылкой на лице Ваську, напустил на себя строгость: — Ты чего это сотворил?
Читать дальше
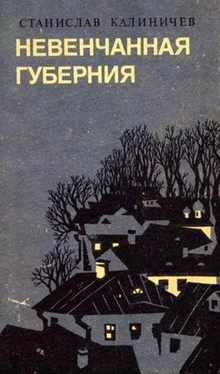





![Станислав Калиничев - У «Волчьего логова» [Документальная повесть]](/books/422988/stanislav-kalinichev-u-volchego-logova-dokumenta-thumb.webp)