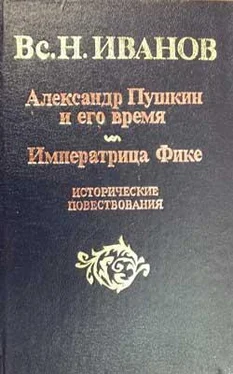Уж темно: в санки он садится.
«Пади, пади!» — раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.
При свете нагоревшей свечи, под ночной гул моря в открытую дверь балкона стихи невиданной силы и красоты накатываются, ложатся на листы серой бумаги… Да как же это хорошо, что красота откладывается, запечатлевается в литературе! И как удивительно хорошо, что старая, в литературе навсегда запечатленная красота не исчезает, а делает прекрасным и новый мир.
Если бы Пушкин хотел лишь критически «разоблачить» Онегина — показать его блестящую «пустоту — ничтожность», безусловно, он сумел бы подобрать роману своему соответствующую звонкую концовку, чтобы на манер Мефистофеля тащить Онегина, как согрешившего Фауста, прямо на сковородку огненного ада.
Но нет! Онегин спасается, как спасается и Фауст, ибо не публицистику, не критику Онегина, а живой, целостный показ живого человека — вот что дал Пушкин. Роман хоть и в стихах, а все же «роман», то есть показ самой судьбы человека. Это самая движущаяся жизнь, то есть сама всегда правая история. Пушкин не хочет вовсе губить, валить, уничтожать, шельмовать своего героя. Он любит Онегина таким, как он есть, или таким, как есть сам Пушкин. Он, автор, мужественно идет с ним, следит за ним до коцца, он ищет выход ему, и Онегин будет спасен любовью Татьяны, любовью поэта. Ведь в конце-то концов разве не все люди будут спасены?
Образ Онегина — «второго Чаадаева» постепенно разрастается в собирательный образ молодого российского дворянина. Молодой человек вертится перед заморским зеркалом, «подобный ветреной Венере», — Онегин наконец скачет «в ямской карете» на бал… И тончайшая деталь: в ямской, а не в собственной. Почему: барина придется ждать до утра, и своих коней морозить жаль. Русский быт.
И при всем том мы нисколько не завидуем Онегину… Не Онегин сердцеед, а сердцеведец Пушкин — вот кто нас привлекает! Он ставит ребром оценивающий вопрос:
Но был ли счастлив мой Евгений,
Свободный, в цвете лучших лет,
Среди блистательных побед,
Среди вседневных наслаждений?
И слышится в ответ:
— Нет! Не был счастлив!
Набрасывая эти строчки, Пушкин ведь слышит, как под балконом ворочается, ревет, бурлит порт Одессы. За балконом проходят паруса, под балконом грохочут, скрежещут колеса ломовых, кованые копыта битюгов и першеронов, вдруг завоет в порту современное чудо — «пироскаф». Торговля, фабрики, капитал встают, потягиваются, входят в мир могучие, молодые; жадные до жизни гиганты тянут во все стороны свои волосатые, мускулистые руки… Закипает котел капитализма. Народы, вы спите на богатствах! Вставайте! Ищите! Берите! Делайте! Богатейте!
И Пушкин видит, что его изысканный Евгений столь нежен, слаб, что он обречен, и автор вынужден ради него — или, может быть, вместе с ним? — отказываться от каменных городов такими четырьмя строчками:
Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины;
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.
Пушкинский Петербург монументален — это застывшая музыка из гранита и кирпича. Одесса же, «шумная, пыльная», тает, как облачко в полдневный зной…
«О rus!» — поставит скоро уже ко второй главе «Онегина» поэт эпиграфов восклицание Горация: «О деревня!» В деревню! А может быть, снова улыбка в лукаво-неверном переводе: «О Русь!» — К России!
Эти все бесконечно новые и новые впечатления, это все твои грядущие судьбы, Россия! Надо спасать Онегина, тебя надо спасать, Россия! Как?
Между тем для поэта в ноябре 1823 года над Одессой всходит второе солнце: в голубой гостиной воронцовского дворца впервые принимает графиня Воронцова.
И она была старше Пушкина. Была супругой наместника его величества в Новороссии, матерью…
Замкнутый чиновник Филипп Филиппович Вигель, полуфинн по крови, неуживчивый, «вредный» Вигель, служивший при Воронцове, в своих талантливых «Записках» вспоминает об Елизавете Ксаверьевне:
«С врожденным польским легкомыслием и кокетством желала она нравиться, и никто лучше ее в том не успевал. Молода была она душою, молода и наружностью… Быстрый, нежный взгляд ее миленьких небольших глаз пронзал насквозь, улыбка ее уст, которой подобной я не видел, казалось, так и призывает поцелуи».
Приветливая, любезная со всеми, веселая, она умела различать людей, к каждому подойти по-своему. И еще одно: графиня была равнодушна к женскому обществу, а предпочитала общество мужчин.
Читать дальше