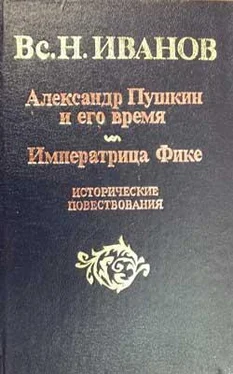Поэт вообще не стеснялся в выражении своих восторгов, своих чувств, как и своего гнева. Едучи однажды верхом по праздничной улице, Пушкин в окне увидел хорошенькое девичье личико, дал коню шпоры и въехал на крыльцо.
Девушка перепугалась. И весь Кишинев после этого услышал, что генерал Инзов на два дня отечески лишил Пушкина обуви. Поэт просидел это время у себя в комнате за письменным столом, писал, читал и развлекался стрельбой из пистолета пулями восковыми и из хлебного мякиша.
Восковыми пулями дело не ограничивалось. Играя как-то ва-банк, Пушкин проигрывал некоему офицеру Зубову… Встав из-за стола, он со смехом заметил, что, в сущности, ему не следовало бы платить проигрыша, так как Зубов играл наверняка…
Произошло объяснение, последовал вызов. Поехали «в Малину» — виноградник за Кишиневым, где по традиции происходили дуэли. Пушкин «стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки» [11] [11] Ср. «Повести Белкина» («Выстрел»).
, Зубов стрелял, дал промах. Пушкин, имея за собой право выстрела, спросил: — Вы удовлетворены?
Зубов требовать его выстрела не стал, а бросился обнимать противника.
— Это уже лишнее! — заметил холодно Пушкин и ушел.
Был и другой случай. Пушкина вызвал к барьеру из-за пустячного недоразумения на танцах старый командир Егерского полка, герой Бородина, полковник Старов. Стреляться съехались на рассвете зимой, в метель, в сильный ветер. Стреляли каждый по два раза, но давали промах.
Решили отложить до хорошей погоды, но друг Пушкина Н. С. Алексеев увел противников в ресторан Николетти и помирил их.
— Полковник, — сказал Пушкин, — я всегда уважал вас и потому принял ваш вызов!
— И хорошо, Александр Сергеевич, сделали! — отвечал тот. — По правде и я скажу, что вы так же хорошо стоите под пулями, как и пишите!
Оба противника обнялись…
Свободный, смелый, независимый Пушкин не стеснял себя и в сердечных увлечениях… Один из молдавских друзей поэта, Константин Захарович Ралли, поехал раз с Пушкиным в свое поместье Долну (ныне город Пушкин). Неподалеку в лесу стояла табором цыганская деревня, заселенная крепостными Ралли. Возвращаясь из Долны, Ралли с Пушкиным заехали к лесным этим цыганам, где в шатре у були-баши, то есть у старшины табора, Пушкин увидел его дочь. Высокая, черноокая красавица с длинными косами, Земфира одевалась по-мужски — носила шапку баранью, белую шитую молдаванскую рубаху, цветные шальвары, курила трубку… Женского на ней были только мониста из золотых и серебряных монет, дары ее поклонников.
Пушкин был в восхищении, он стал уговаривать своего спутника погостить в этом лесу — среди цыган, певших под гитару, плясавших с медведями, звонко ковавших чудесные поделки, хоть немного пожить такой простой, привольной жизнью.
И жил Пушкин в шатре седого були-баши целых две недели, ел у костра простую пищу, две недели бродил с красавицей по степи, по лесу. И люди видели, как юноша и девушка, взявшись за руки, стояли в поле и восхищенно смотрели друг на друга — простая цыганка и великий поэт. К тому же красавица говорила только по-цыгански, а Пушкин по-цыгански не понимал… И говорили еще люди, будто Пушкин сильно ревновал эту свою немую любовь…
И вот, как-то вернувшись из поместья Ралли в знакомый шатер, Пушкин своей красавицы там не нашел. Oнa бежала с другим — цыганом, предпочтя его любовь любви Пушкина, бежала в село Варзарешты. Пушкин хватает коня, скачет за изменницей, ищет ее — и не находит.
И Пушкин снова в Кишиневе, в доме Инзова, — степная и лесная любовь пронеслась над ним ливнем — с грозой, буреломом, освежила душу, развернула новые горизонты.
Пушкин, пережив любовь Зефиры, «не умер, не сошел с ума». И чудится автору, пишущему эти строки, что та неведомая строчка, вспыхнувшая в поэте на именинном пиру у Орлова, все время мучит его сознание, грызется, как мышь под полом.
Бойцы поминают минувшие дни…
Строчка эта живет где-то в мозгу, шевелится там, ищет себе некоего единственно возможного расширения, витая не то в музыке, не то в цветных, переливных образах. Что могло окружать эту строчку в этих смутных переживаниях Пушкина? Шум именин Орлова, басистые, победные, уверенные, упоенные, грозные голоса. Карамзин подсказывает, что эти голоса должны быть древними, чтоб устоять, не быть снесенными бегом времени. Пушкин после обоих именинных пирогов Кишинева и Каменки побывал в Киеве, на его романтических надднепровских высотах. Возможно, что это в древнем Киеве происходит этот пир? Пир этот — тризна, тризна по великому мужу, мужу уходящему, но не в могилу, а в бессмертие; и вот тут, как-то сразу возникнув и закачавшись в видении, карамзинская легенда о кончине вещего Олега, первого древнейшего носителя русской славы, сразу опускается на твердую почву правды, чтобы в творчестве ноэта быть перелитой в вечное произведение искусства — и стать в вечности как баллада о вещем Олеге.
Читать дальше