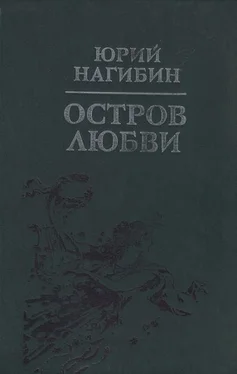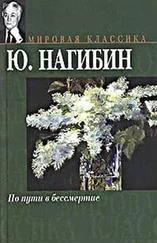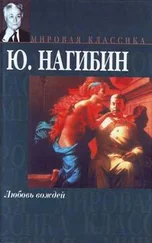Не такой он был человек, чтобы смириться, в тиши пережить свою неудачу, сделать должные выводы. Нет, сызмальства его девизом было: «Отмщение!» Пошли «отомщевательные» романы: «Некуда», «Обойденные», наконец, грубо, судорожно слепленные «На ножах». Покойный Писарев отказал ему в звании русского литератора и утверждал, что ни один порядочный писатель не захочет видеть свое имя рядом с именем господина Стебницкого, под таким, довольно нелепым псевдонимом он начинал. Травили, улюлюкали и не хотели заметить, что были в «Некуда» Рейнер, списанный с кристального Артура Бени, погибшего в войсках Гарибальди, Лиза Бахарева, Бертольди, студент Помада — кто еще так любовно изображал нигилистов? А сокрушал он лишь тех, кто принизил, испохабил, в грязь втоптал чистый тип Базарова. Да что говорить!.. Лучшие годы жизни были смяты, осрамлены, просто украдены, ибо не жил он, а томился и страждал духом. И не было не только прощения, но и забвения содеянному в молодости. Один за другим выходили «Житие одной бабы», «Запечатленный ангел», «Соборяне», «Тупейный художник«, «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе», «Очарованный странник», а критики как воды в рот набрали. И не было таких причудливых и богатых духом русских характеров ни у кого из пишущей братии, даже у самых великих. Во всяком случае, его праведники не чета сопливому Макару Девушкину! Но хоть бы кто словом добрым печатно обмолвился! А ведь читали и перечитывали, но молчали, поджав губки, во дворце читки вслух устраивали, сам венценосец восхищался. Достоевский раз даже страшным словом «гениально» в адрес его проговорился, а печатно — уязвлял. Нет, как ни крути, остался он незаконным сыном русской словесности.
Ныне известность его на всю Россию и за границу шагнула, а стало ли ему легче печататься, свободнее, увереннее жить? Нет, все так же свирепствует над его сочинениями цензорский карандаш, а теперь и духовная цензура навалилась. И нет семьи, да еще неудачный сын-пустопляс. Вот какой горечью пахнуло на Лескова от занявшегося где-то неподалеку пожара. Весь душевный мусор взвеяло тем дуновением. И сразу стало трудно дышать. Впору домой вернуться. Но тут он увидел одинокого «ваньку», клевавшего носом на козлах.
Тяжко просели старые рессоры под грузным телом.
— К Гостиному двору! — приказал Лесков.
«Ванька» проснулся, подобрал рваные вожжи, дернул, чмокнул губами и стал разворачивать свою каурую клячонку.
— Куда, дурак? — Лесков ткнул камышовой тростью в худые лопатки извозчика. — Не видишь — пожар. Давай прямо.
— Далече барин. — «Ванька» обернул к Лескову старое личико с редкой, как у корейца, бороденкой. — Четвертачок придется накинуть.
— Хватит и двугривенного, — сказал Лесков. — Пошел!..
И пролетка, скособочившись в перевес грузного седока, покатилась по булыжной мостовой…
В полуденный час последнего дня лета на Невском проспекте было людно, шумно, пыльно и вонько. За лето город всегда портился, протухал. Хоть и строго спрашивали с дворников, да ведь за каждой мелочью не уследишь — в пазах торцов между плитами тротуаров что-то застревало, разлагалось на жаре, изгнивало. Да и всякий продукт смердит летом вдесятеро против других времен года, когда пахнет либо морем, либо дождевой сыростью, либо чистым снегом, а в краткую пору петербургской весны — травой, листьями, сиренью. Лесков злился на город, а еще больше на самого себя. Он знал, что настоящим петербуржцам здесь никогда дурно не пахнет. Говорят, у Достоевского плотоядно шевелились ноздри, когда он шел через Сенную, будто вдыхал не настой дегтя, конского навоза и мочи, деревенского рассола и гнилой соломы, а нежнейшие ароматы. Не смущал Петербург и чуткого носа Пушкина. Беда в том, что Петербург так и не раскрылся Лескову, несмотря на все его славословия — печатные и устные, — как не раскрылся до конца никому из русских писателей, кроме Пушкина и Достоевского. Такие бытописатели и знатоки Петербурга, как Всеволод Крестовский, разумеется, не в счет.
Пушкину Петербург был высок и дивен, как могут быть дивными лишь в исторической памяти человечества Афины Перикла или цезарийский Рим. Афиняне золотого века и древние римляне, конечно, не так очарованно воспринимали обстав своего каждодневного бытия. Надо быть Пушкиным, чтоб, отметя трущобы, пустыри, грубую, бьющую в нос невоплощенность стройных замыслов градостроителей, слякоть и грязь, морось и промозглый ветер с Невы, видеть волшебный город, будто родившийся из прозрачного сумрака белых ночей, город, который ничто не может унизить.
Читать дальше