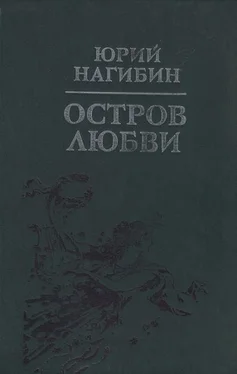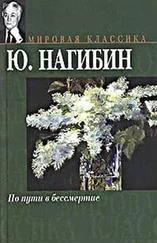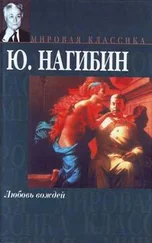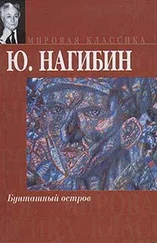Отдав это распоряжение, Бах как будто потерял всякий интерес к судьбе своих сочинений. Он диктовал мужу старшей дочери, музыканту Артниколю, хоральную фантазию на мелодию «В тягчайшей скорби», но назвал ее первыми словами молитвы «Перед твоим престолом».
Из тьмы и нестерпимой, пронзающей мозг боли исторглась не жалоба, не мольба о милосердии, не скорбный упрек, а чистая, прозрачная хвала господу, исполненная смиренного благочестия.
И, давно разочаровавшийся в созданных им по образу и подобию своему, Вседержитель поверил, что еще не все пропало, и, умиленный, ниспослал чудо, чего за ним давненько не водилось: отверз Баху вежды.
Бах увидел прекрасное лицо жены, освобожденное любовью и терпением от всех земных тяжестей, увидел милые, бедные, испуганные лица детей и тихо, спокойно простился с ними, ибо понял, что за ниспосланной ему милостью последует не исцеление, а скорая кончина. О своих сочинениях он даже не упомянул, и это больше всего мучило Анну Магдалену.
А что бы Вседержителю расщедриться и сунуть Баху под подушку полный кошелек! Тогда бы знал умирающий, что не пропадет, не сгинет созданное им, и блаженно легок, светел стал бы его исход. Да ведь то был скаредный немецкий бог, так же не способный вышагнуть из самого себя, как не смогли этого ни Ганс Швальбе, ни Фриц Гогенцоллерн.
Старшие сыновья Баха не были в Лейпциге, когда он умер. Но они приехали на похороны, имевшие место 31 июля 1750 года во дворе церкви св. Иоанна. А на другой вечер после похорон Фридеман и Эммануил заперлись в кабинете отца, где хранились его музыкальные сочинения. Конечно, они многое знали, да почти все знали, кроме, разумеется, новых фуг и последнего хорала, но кое-что забылось, кое-что звучало сейчас по-иному, а главное, впервые стал обозрим весь геркулесов труд. Оба читали с листа так же бегло, как их отец. Всю ночь напролет просидели братья в запертом кабинете при тусклом свете оплывающих свечей, спиной друг к другу, уставясь в ноты, прижав кулаки к вискам, будто в опасении, что лопнет черепная коробка под напором звуков. Пот орошал высокие баховские лбы, истекала слезами родовая голубизна глаз, и, если бы какой-нибудь лейпцигский обыватель заглянул в прорезь ставен, он принял бы этих людей за сумасшедших.
Оцепенелый от свежей утраты, погруженный в тяжелый, провальный сон, старый дом был так тих, что слабый шорох, треск рассохшейся половицы, чей-то прерывистый вздох казались пугающе громкими. Но братья не слышали пустой тишины дома, им гремели оркестры, и стон хоралов, возносящихся к престолу бога, надрывал душу.
Под утро они разошлись, не сказав друг другу ни слова. После короткого сна снова заперлись в кабинете. Так длилось несколько дней и ночей. Когда же наконец окончился невероятный концерт, они были в полном изнеможении.
— Какие же мы все-таки дети рядом с Ним! — вздохнул Фридеман и смял ладонями лицо.
— А ведь, пожалуй, если все это обнародовать, — задумчиво проговорил Эммануил, — не станет ни династии, ни роду, ни семьи музыкантов Бахов. Будет один Иоганн Себастьян во веки веков.
Этот голос унылого практицизма снял колдовские черты, Фридеман громко расхохотался.
— Неужели ты, братишка, метишь на роль Главного Баха?
— Ни на что я не мечу, — кисло отозвался Эммануил. — Но чем скорее мы выработаем собственный стиль, тем будет лучше для нас. На стезе отца мы останемся его бледными тенями.
— Целиком согласен с тобой. Но при чем тут его музыкальное наследство?
— Ни при чем. Я только хотел сказать, что нелегко нам будет выпростаться из-под такой махины.
— А что, если собрать все это в кучу да…
— Перестань, Фридеман! Ты был любимцем отца, как поворачивается у тебя язык, пусть даже в шутку… — оскорбился Эммануил.
— Не ханжи! — оборвал брат. — Я пытаюсь понять, что у тебя на уме.
— Я ничего не скрываю…
— Ну, так не тяни! — вскипел Фридеман.
Старшие сыновья унаследовали недостатки отца, так же как и его достоинства. Но если достоинства перешли к ним в ослабленном виде, то недостатки, напротив, усилились до степени пороков. Так, вынужденная и разумная расчетливость Баха обернулась в Эммануиле болезненной скупостью; отцова настойчивость переросла во Фридемане во вздорное упрямство, а готовность защищать свое достоинство стала всегдашней настроенностью на ссору и скандал. Эммануил знал характер брата и побаивался его. Он оставил без внимания его оскорбительную выходку и сказал миролюбиво:
Читать дальше