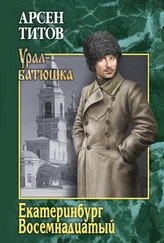― Да черт с тобой! ― вслух сказал я переправе. Именно так же меня мучила пустота после гибели Ражиты, и так же мучила несуществующая вина перед братом Сашей. Все было далеко, и все было будто выдумано. Подлинными были только батарея в сожженной деревне, ночь с луной и желание снять сапоги, а потом плеснуть в лицо водой. “Черт с тобой, отстань! Мне вот сапоги надо снять!” ― с нажимом сказал я переправе.
И я придумал их снять, зажав поочередно пятку в спицах орудийного колеса.
― Вот то-то! ― при этом сказал я.
Один сапог я снял более-менее благополучно. А на другом оторвал подошву. Она оказалась совсем сгнившей. Я махнул рукой, оставил сапоги в покое.
Земля была горячей. Я, босой, пошел искать воду, вспомнил Локая, вернулся за брезентовым ведерком. Кони снуро стояли, привязанные несколькими табунками повзводно. Локай был при первом взводе. Среди гнедых кабардинцев он, вороной, выделялся более темным пятном. Я вспомнил рекомендацию ветеринара Ивана Васильевича. Признать ее выполнимой было невозможно. Вся батарея, все чины штаба и все находящиеся по надобности в штабе оставили бы свои занятия и во все глаза выперлись бы на меня, на козу, на Локая, сначала поодиночке, в руку, всхохатывая, а потом разражаясь ревом на всю Персию. Я обругал Ивана Васильевича, а потом сам захмыкал над своей доверчивостью.
Батарея, оказывается, спала не вся.
― Неужто кончилось? ― говорил кто-то, вероятно, своему закадычному другу. ― Здесь маленько поживее сторона-то. Спаси Бог снова туда попереться. Веришь, нет, кунак, а я совсем издыхал. Я думал, умом тронусь, как кто-то из драгунцов. Вот как пить мне хотелось. Веришь, нет, кунак, я в котелок помочился и выпил. Это же до какой ненадобости надо себя довести, чтобы начать пить-ись себя же самого!
― Вот Маремьяне своей дома расскажешь, дак и будешь спать со скотиной! ― попытался посмеяться кунак.
― А вот скажи, дядя, ― говорил молодой голос в другом месте. ― Вот хто они таки, ныгличане? Это обчество такое, ну, я хотел сказать, страна это такая или умозаключение такое?
В Хракеринском моем госпитале так же точно солдатики удивлялись горному климату, при котором на их позициях мела метель, а у меня внизу была влажная духота. “Одно слово, Индия!” ― говорили они. И сейчас, вспомнив их и слушая молодого ездового, я ощутил сильный, насколько можно было при общем нашем отупении, стыд за глухую и непроходимую нашу темноту, которая одна только и давала нам возможность терпеть то, чего ни один другой народ терпеть не был способен. В другое время я это терпение нашего солдата и казака относил к другим причинам ― и более-то к сложившемуся веками национальному характеру страны, со всех сторон открытой и постоянно подвергаемой войнам и набегам. А тут при упоминании сих “ныгличан” мне стало стыдно. Они не получили горячего какао и сдались. А мы… Надо было бы переполниться злобой. Я же испытал стыд.
― Их, поди, сроду нет, ныгличан-то, ― продолжал пытать дядю молодой ездовой. ― Поди, нам их придумали, чтобы мы ловчее турка били. Где вот они? Наш-то, ― я понял, что под “нашим” выступал я, ― наш-то пред походом говорил, что до них семьсот верст. Дак, поди, для такой оказии и турка-то не хватило. Сами себе импираторы какаву придумали, чтобы мы ловчее турка оббежали.
― Эх ты, импиратор. Тебе говорили, как они воюют, англичане-то. Им мармеладу, какавы и чего там не подвезли ― они враз по телеграфу своему императору сообщение: воевать не сможем! Тебе же говорили! ― безнадежно вздохнул дядя.
― А что я! Я такося на походе натрудился, что и спать не могу! ― буркнул молодой, смолк и вдруг прибавил: ― А подметки сгорели на этаком жаре! Без сапог я теперь!
― Поищем. Чего гляди, с курдяка снимем! ― отозвался дядя.
Приказом пары солдатских сапог должно было хватить от Энзели до Казвина, где должно было получить следующую пару, которой хватило бы до Хамадана, а там еще пара ― до Керманшаха, и еще пара ― до Ханекина. Но остряки стали заявлять, что приказ несколько неточен или его не совсем точно исполняют, а наказания за неисполнение, однако, не несут.
― Нет, братцы, до Казвина одной пары сапог хватает, это верно. А вот до Хамадана второй пары никак хватить не может! ― говорили остряки, и суть остроты заключалась в том, что солдатик преодолевал путь до Хамадана не во второй паре сапог, а в первой же и единственной, как в ней преодолевал путь до Керманшаха и далее. Собственно, то же происходило со всем остальным. Полушубки пришли, например, вместо конца ноября ― в конце марта. А в конце ноября пришли летние гимнастерки. Да я, кажется, о подобном снабжении уже говорил.
Читать дальше
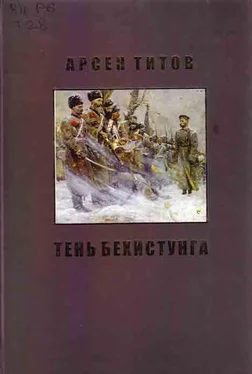








![Хайдарали Усманов - Угроза под сенью леса [publisher - SelfPub]](/books/434885/hajdarali-usmanov-ugroza-pod-senyu-lesa-publisher-thumb.webp)