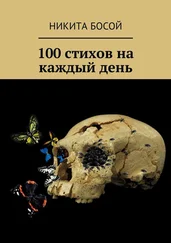«Смотри, Миликэ, – говорим ему, – грех это. Ты ведь на чужом поле своих лошадей пасешь».
«Потому и пасу, что поле не мое».
«А в ад попасть не боишься?»
«А чего бояться, никакого ада и нет вовсе. Ад только в церкви красками малюют – дураков пугать вроде вас. Так и мой отец всегда матери говорит, когда та его пилит за пьянство».
«А вот ты сам попом сделаешься, так же говорить будешь?»
«Не-е, по-другому…»
«Значит, врать будешь? Говорить, чему сам не веришь?»
«А что ж? Такое уж ремесло…»
«Ну и катись ко всем чертям со своим ремеслом».
«А плевал я на вас на всех…»
Он же еще и лается! Чтоб такое спустить? Ну уж нет. Схватили мы его и лупили кнутовищами, пока не рассвело. Нас было трое, а он один. Чуть до смерти не забили. Потом всю неделю от жандарма Жувете прятались. Того не знали, что жандарм с попом в ссоре. А как узнали, так и объявились. И ничего нам не было…
В дом гурьбой вваливаются сестры и брат Ион. Вслед за ними входит и Дица. Платье на ней мятое-перемятое. Тетушка Уцупэр смотрит на дочку, и глаза ее светятся радостью. Из-под раздвоенной губы Дицы на подбородок течет мутная слюна. Дица отирается рукавом зипуна. Тетушка Уцупэр спрашивает:
– Сколько же парней обнимало тебя, Дица?
– Ну, четыре, а может, пять.
– Всего-то! А может, больше?
– Не-е.
– А не было ничего такого?..
– Не, мама.
– То-то, дочка. Смотри, будь умницей, береги себя.
– Да уж берегу. К свадьбе.
Юбка у Дицы вся в соломинках и колдочках. Хорошо, видно, ее поваляли.
– Эх молодость, молодость! Что она знает о жизни?..
Пришел и отец. Мы снова, как в обед, усаживаемся вокруг стола. После ужина отец с братом уходят спать на кухню, поближе к огню. Мы потеснились на постели, освободив место для тетушки Уцупэр. И для Дицы. В ее объятиях засыпает моя сестренка Рица. Я свертываюсь калачиком и стараюсь как можно дальше отодвинуться от Дицы, так что упираюсь щекой в сундук, отделяющий постель от стены и окна. Привернутая лампа мигает. Свет от нее тусклый, слабый. Словно сквозь густой дым угадываются стены комнаты. Мама все еще шепчется с тетушкой. Ночь привалила к окну огромные, обитые мягким бархатом плиты мрака. Я знаю, что теперь на всем белом свете, от края до края, от земли до неба, владычествует тьма. Тесно прижавшись друг к другу, мы лежим рядышком, укрытые грубым одеялом. На улице, во тьме, остались лишь дикие звери. И стоят в ночи за стенами дома деревья…
Голоса мамы и тетушки Уцупэр звучат все глуше. Они уже едва слышны. Я уже еле различаю их, как будто кто-то заложил мне уши ватой. Дыхание мое становится все реже, все неслышней. Под чьей-то мягкой, бархатистой ладонью смыкаются веки. Вдруг Дица поворачивается ко мне, охватывает меня руками и крепко-крепко прижимает к себе. От нее пышет жаром. Она вся пылает. Прикосновение чужого тела возбуждает меня. Кажется, будто мне в кожу и под кожу впились тысячи муравьев. Дица обхватывает меня за плечи и легко переворачивает лицом к себе. Я пытаюсь отпихнуться. Но она подсовывает мне свои жаркие груди. Я впиваюсь в них пальцами. И уже не могу оторваться. Лампа потухла.
Куда девался сон? Ведь я, кажется, уже засыпал!
В этот свой приезд тетушка Уцупэр привезла к нам мою двоюродную сестру. Иногда вместе с тетушкой приезжает ее муж, мой дядя, Прекуп Урбан Уцупэр. Это высокий мужчина, широкий в плечах, а сам тонкий, как угорь, острый, как лезвие; глаза у него черные, глубоко посаженные, так и полыхают огнем из-под густых, пышных бровей. Лицо у дяди очень темное, как чугун. Он сажает меня на колени. Качает. Дядя любит играть со мной. Сердце его истосковалось по детям, особенно по мальчикам. Их у него было двое: Гуцэ, умерший в прошлом году от сибирской язвы – он был чуть постарше моего брата Иона, – и Пантилие, в том же году погибший на военной службе в Турну. Тело его дядюшка Уцупэр в закрытом гробу перевез на телеге в родное село и похоронил рядом с Гуцэ. Славный паренек был мой двоюродный брат Пантилие!.. На верхней губе у него уже пробивались усики, и когда он смеялся – а смеялся он без конца, – то в улыбке открывались два ряда белоснежных зубов. Под мышкой он всегда носил короткую дубинку – обороняться от собак и от парней, если бы те осмелились, хотя бы в шутку, приставать к его девушкам.
– Да сколько же у тебя девушек, Пантилие? – как-то спросила мама.
– Ох, много, тетя Марие, – коли нет бородавок на носу, та, значит, и моя…
И заливался смехом. Смеялись и мы. Ни у одной из знакомых нам девок бородавок на носу не было. Выходило, что все девушки села – девушки моего двоюродного брата. Всё любил Пантилие – девушек, работу, жизнь. В голове у него сами собой складывались песни. Он звал музыкантов, учил их этим песням и заставлял исполнять их для себя, когда бывал весел, или для людей, чтобы шла о нем добрая молва. И слава о его песенках докатилась до города, прямо до городской префектуры. Пантилие пел, а скрипачи подхватывали:
Читать дальше