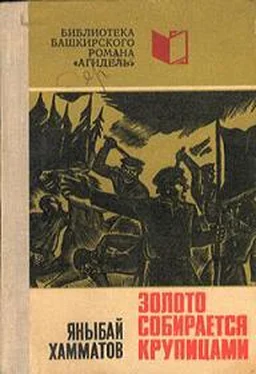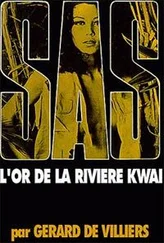– Он еще без сознания… У него сломана рука и нога!..
– Тогда срочно пошли за доктором в Оренбург!.. Мало одного – привези двух, трех, но пусть они вылечат мальчишку!.. Денег не жалей!.. Сейчас мы можем потерять целый новый прииск! А теперь ступай – я сегодня очень устал… Завтра я тоже уеду в город, буду ждать от тебя только хорошие и добрые вести – понял?
– Слушаюсь, – управляющий, бесшумно ступая по ковру, удалился, осторожно прикрыв за собой дверь.
Галиахмет-бай снова щелкнул ключом и вынул самородок. Усталости и сонливости как не бывало – он смотрел на тускло поблескивающий камень и думал, что может смотреть так часами, как всегда испытывая ни с чем не сравнимое наслаждение. Даже любовь женщины не приносила ему столько радости, сколько давали эти минуты, делавшие его сильнее всех…
Бедняки рано ложатся спать, потому что у них нет керосина. Если же и найдется немного, то не станет бедняк жечь керосин понапрасну.
А к богачам поздно приходит сон, ведь у них всегда есть керосин и всегда есть деньги, на которые можно сразу купить большую бутыль керосину, чтобы жечь его сколько душе угодно!
Поселок тонул во тьме. Лишь в середине его горели желтые прямоугольники байских окон. Они бросали свет на мечеть с торчащим минаретом, на ближние крыши, образуя ярко освещенный круг, и от этого круга только чернее казалась темнота на краю деревни, гуще собирались тени в глубине дворов, у плетней, обмазанных глиной.
Хисматулла так и не осмелился пройти мимо мечети и, миновав крайние дома, задворками вышел к своему саманному, крытому дерном домику. Голова его болела, во рту было сухо и горько руки дрожали. Стараясь не шуметь, он открыл дверь, но, не сделав и двух шагов, наткнулся на старый самовар, стоявший у стены. Самовар упал набок и загремел. Тут же в переднем углу, где лежала на нарах мать, послышался сгон.
– Ты что, заболела?
– Как ты долго сегодня, сынок… Я уж лежу и думаю: может, случилось что? Людей теперь много всяких на дорогах…
Хисматулла покраснел, помолчал с минуту, радуясь, что в темноте мать не увидит его лица.
– Ты заболела?
– Хажисултан-бай зарезал лошадь на мясо, и Хуппиниса велела мне вымыть внутренности. Может, надорвалась от тяжести… – Мать застонала от боли. – Алла, ой алла! Так болит, моченьки моей нет…
– Зачем ты пошла туда? Ты же еще вчера жаловалась, что болит спина!
– А как же не ходить? Зажги огонь, поешь, сынок. Там лапша для тебя стоит, поищи, в деревянной миске.
– Чувал растопить?
– Не надо зря тратить дрова, зима скоро. Там лучинки на очаге, вот и зажги…
Хисматулла, водя руками как слепой, нашел лучину и стал рыться в золе, отыскивая горящий уголек. В темноте сверкнула крохотная искорка. Хисматулла осторожно подложил угли, встал на оба колена и принялся раздувать. Но угли были плохие, из гнилого дерева, они никак не разгорались, и снова голова у него неприятно закружилась, в висках заломило. В наступившей тишине радостно заверещал сверчок.
– Если не горит, не мучайся. Там, на карнизе, есть еще шесть спичек, возьми одну. – Сайдеямал вздохнула: – Если аллах будет милостив к нам, даст еще…
Хисматулла поджег спичкой тоненькую лучинку. Когда один конец ее сгорел и обуглился, он перевернул лучинку другим концом. Темнота отступила в углы, землянка залилась слабым светом.
Теперь можно было разглядеть деревянные нары, где лежала на кошме больная мать, небеленый чувал, очаг и земляной пол. Потолок почернел от дыма, окно, затянутое брюшиной, и в полдень не пропускало много света, а в ночной темноте сливалось со стенами.
Хисматулла достал чашку с лапшой и принялся за еду. Дым лучины ел глаза.
– Лапша вкусная?
– Да, – Хисматулла, не донеся ложку до рта, положил ее обратно в миску. – Ты опять не ела? Даже не попробовала?
– Ешь, сынок, ешь. Я не голодная…
– Нет, я же знаю, что голодная, всегда ты так! На, доешь хоть, что осталось, – Хисматулла встал и отнес чашку матери. – Ну, хоть немного…
Мать попробовала лапшу и подвинула миску сыну.
– Ты же не наелся. Не думай обо мне, я дома, мне гораздо меньше надо, а ты работаешь. Вправду хорошая лапша? Это Гульямал принесла. Ой, алла, опять этот живот! О-ой, за что мне такая напасть?.. Видно, уж недолго осталось мучаться на этом свете…
Сайдеямал задумалась и примолкла. Всю жизнь прожила она в этом доме, и каждая вещь здесь напоминала ей мужа и молодость. Правда, раньше, при муже, все было иначе – каждый день, весело потрескивая, горел огонь в чувале, у огня сушились мокрые каты [7]и маленькие детские лапти – сабата, в котле булькала похлебка. Раз в неделю Хуснутдин приезжал с выгона, где пас байских лошадей, и Сайдеямал старалась пораньше окончить стирку и развесить на изгороди платья Хуппинисы, первой жены бая, и ее красивые, расшитые цветным шелком рубашки, чтобы подольше побыть с мужем. В субботу, чуть па дороге слышался конский топот, четыре черные головки, четыре пары черных, как уголь, глазенок, четыре пары босых загорелых ног – четверо ее сыновей выскакивали из дому и мчались к воротам:
Читать дальше