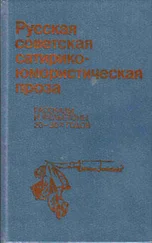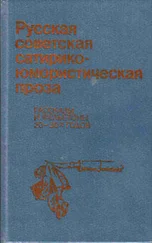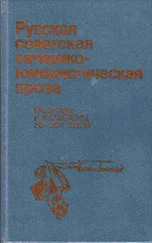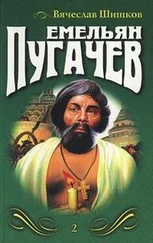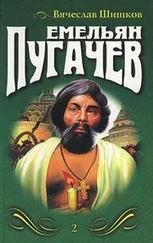– Вернулись? – уныло спросил и Николай Ребров.
Толстяк опустил голову и, закрыв ладонью глаза, коротко, прерывисто дышал.
– Погиб… Погиб я… Анафемски малодушен оказался… Колпак, дрянь, тьфу!.. баба! – бабьим голосом выкрикивал он, притопывая пяткой в пол. – Я не один, не один… Еще трое вернулись… Страшно. – Он подошел к юноше и неуклюже опустился пред ним на колени. – Колечка, голубчик… Страшно. Этот сволочь, возница, чтоб ему, чухне, поколеть, таких ужасов нагородил – беда. Будто бы много наших померзло, и только счастливчики благополучно выбираются. Толстопузый дурак я, чорт… Сидел бы я, толстопузый, во Пскове, нет! Чорт понес отечество спасать. Ну и подыхай, старый дьявол, здесь… Сидоров, дружище… Давай пить, пить, пить!
– Есть, ваше благородие, – и Сидоров достал из своего топорно сделанного сундучка завернутую в грязные подштанники бутылку с ромом и кусок сыру.
Павел Федосеич жадно выпил целый стакан и сразу расхолодел.
– С холоду, оно приятно, – улыбнулся Сидоров.
– Колька! Вьюнош! – закричал толстяк. – Знаешь, кто это? – и он похлопал Сидорова по плечу. – Это ангел, это спаситель твой. А я подлец, и кузен твой подлец, и все мы подлецы, бросили тебя, миленького нашего, больного мальчишку. А вот он не бросил… Запомни, вьюнош, русского мужика!.. На всю жизнь запомни!.. Ведь, кто нас бежать-то подбил, кто горел этой идеей-то? Он, Сидоров. А вот остался. Это не подвиг с его стороны? Подвиг!.. Христианский! Ближнего возлюбил… А ведь ты ему чужой, – толстяк обнял Сидорова и плакал у него на плече. – Не Сидоров ты, а Каратаев, знаешь у Льва Толстого Каратаев такой есть, солдат… Вот ты его внук-правнук…
– Так точно, – сказал Сидоров, простодушно улыбаясь. – На нашей деревне Каратаевы имеются… Конешно, кузнецы они… – Нос его еще больше закурносился, и узенькие глазки потонули в скуластых лоснящихся щеках.
– И ты больше не денщик Сидоров, ты знаменитый крепким русским разумом, мягким русским глупым сердцем потомственный мужик. Пей, гражданин Сидоров!.. Колька, пей!
Николая Реброва качало и потряхивало, и кто-то в дальнем углу, за самоваром, срывал и вновь набрасывал на гроба, на кучи гробов, рогожу.
Наступил рассвет. Красный фонарик под потолком погас. Павел Федосеич, мертвецки пьяный, лежал на ковре, широко раскинув пухлые ноги. Он слюняво жевал и мямлил, левый глаз его полуоткрыт и подергивался, как в параличе. За окном мутнело полосатое утро, внаклон заштрихованное медленным пунктиром догоняющих друг друга снежинок, и бессонные глаза Сидорова точно так же мутны, медлительны и бледны, как за окном рассвет.
Но, когда окреп день, и пики елок четко зачернели на мглистом небе, Сидоров доставил больного в лазарет и чуть не на себе втащил его по высокой лестнице.
– Беглец! Несчастный беглец! – вскричал Дешевой, смачно обсасывая куриную лапку.
На губах Николая Реброва жалкая улыбка и взор утомленных, ввалившихся глаз его со щемящей тоской окинул стены недавней своей тюрьмы.
Стремительно-нервная походка – чек-скрип, чек-скрип, – и в самую больную точку, в мозг, в душу град упреков.
– Дарья Кузьминишна, – взмолил лысый, и его треугольное лицо сложилось в тысячи морщин, – умоляю, полегче с ним.
– Дарья Кузьминишна! Да вы посмотрите, каков он! – как бревно с горы, бас Дешевого.
– Они совсем больные-с, – жалеющим голосом и Сидоров. – Они несчастны-с.
* * *
Юноша на этот раз, действительно, тяжко заболел. Прошло мучительных три дня. Военный доктор зауряд-врач Михеев, молодой, но облезлый человек, распушил Дарью Кузьминишну, сменил сиделку, оштрафовал караульного, но эти меры ничуть не улучшили состояния больного. Нервно-потрясенный, он метался, бредил, с его головы не снимали ледяной пузырь.
За эти три дня двухэтажный дом туго уплотнился вновь поступившими больными. Вместо пучеглазого Дешевого и лысого офицера, выбывших из лазарета, в маленькой комнатке Николая Реброва пять человек тяжко больных.
И вот, среди ночи – изразцовая печь не печь, изразцовая белая печь – их белая комната, там, под Лугой. Конечно так: отец, мать, сестренка, все пьют чай. И он, Николай, пьет чай. Что ж тут удивительного? И что-то удивительного есть, но оно в глубине, в провалах, какие-то горькие туманы мешают удивиться.
– Коля, твой чай остыл, – говорит мать.
– Сейчас, мама, погоди, погоди, сейчас, – вот он расхохочется, вот вспомнит, захохочет иль заплачет.
И так все просто, тихо. Отец плывет, утонул в газетном листе, как в море. Хочется обнять его, приласкаться. Тихо, хорошо и на сердце тихо.
Читать дальше