— Ты не любишь попов, князь, а сам говоришь как они, — остановил Бату поток красноречия. — Кто заставляет людей думать, ими ненавидим будет. Думать — нет хуже пытки для человека простого. Псалмы — не те, так другие — будут всегда: такое не изменишь.
— Значит, рабы, опять рабы — Олег, кажется, и вовсе позабыл, с кем говорит.
— Не тот богол, кто под кнутом, а тот богол, кто делает не предназначенное Небом. И хан может быть рабом, если он не хан внутри. Аты смелый, коназ... берикелля. — Похвала получилась несколько снисходительной.
Всё-таки Бату слегка разочаровался: то, что вещал этот страстотерпец — обычное марево разумных, но одиноких людей. Те, в кого Небо вдохнуло страсть, хочет, чтобы и окружающие тоже доросли до таких высей. И что же это будет? Земля взорвётся, как горшок с джурдженьским огнём. Но пусть книгочеи думают о таком, он — хан. Для него важно другое. Куда бы ни качнулась в очередной раз мелькитская церковь, этот князь не будет слепо преклоняться перед их патриархом. Чем больше у власти людей, для кого румийский патриарх не помазанник Божий, а заблудший фарисей, тем лучше.
Бату поморщился. Здешние попы в который уж раз изменяют себе. Тогда, во время большой войны, они позорно бежали из городов, оставляя свою паству на поругание воинам врага — его, Бату, воинам. Даже владимирский епископ Макарий — вроде не такой, как другие, а что предложил доверившимся ему людям взамен позорного бегства? Бесполезную смерть в огне, а что с неё толку? Они обзывали Батыево воинство «зловещими гогами и магогами», клеймили пришедшими из ада «тартарами» (будто не носила половина его нухуров нательные кресты), и чем же всё кончилось?
Как только выяснилось, что их, черноризых, не тронут — мелькитские попы стали подобострастно служить молебны за победителей, налегая на то, что «всяка власть от Бога». Зачем и против кого тогда оружные дружины, которые они благословляли на рать? Благословляли, прежде чем самим покинуть опасное место? Одни из них восторженно лизали сапоги Гуюку, когда тот прикармливал их в Каракоруме, вызвав для договора о совместном с урусутами походе против Папы... А другие — меньшинство — в ту же грозную пору увивались вокруг латынов.
Хан шумно вдохнул пропитанный курениями воздух, медленно, как урусуты «намоленную благодать», выдохнул обратно. В который раз почувствовал обиду. Почему же он гБату, пришлый завоеватель, «моавитянин», «божий бич» изворачивался, как мог, чтобы уберечь их паству от страшной войны с Европой (которая должна была разразиться опять-таки на урусутских землях). А их церковные пастыри в этой будущей войне (на стороне одних еретиков-несториан против других еретиков-латынов) узрели одно лишь благолепие.
А всё просто: ему, коварному хану, нужны живые подданные, а им — служителям истины — живая вера (и «леготы» монастырские). Если всё вокруг от войны пострадает, так им даже лучше. Сами-то, укрывшись за охранными пайдзами, всяко уцелеют, как Нух в ковчеге. Ежели мир кругом, земля не кажется «юдолью горя и слёз». Отчего на Небо тогда бежать?
Есть другой конец у палки: здешняя мирская власть ослабнет, чем для них не благодать? Каган Гуюк десять шкур через откупщиков с мирян снимал, так даже и радовались. Такое тут бывало и раньше — до них, монголов. Заставил как-то Бату своих слухачей в здешние давние «летописцы» заглянуть. При их чтении возникло такое чувство, будто книжники мелькитские (все из мнихов) только тогда разор городов осуждали, когда вместе с мирянами их самих щекотали. А иначе будто и разора нет — так, дела семейные.
Бату решился, не стал изводить Олега сомнениями. Тихо оповестил:
— Даю тебе грамоту на Рязань, но с условием. Не позволяй у себя усердствовать ни тем, кто под латына клонит, ни тем, кто с несторианами на стремени коротком. Отныне — я твоя защита. Я, — повысил он голос, — не сын мой, Сартак. Понял ли? Он молод, авось изменится. Как мне тут говорил, так и правь народом своим.
У князя задрожали руки... Ага, Не чаял, что так обернётся. На этот раз Олег не спешил, боясь резкими движениями расположение хана вспугнуть, как дичь, к которой крадёшься. Уже почти у порога услышал:
— Кромолу зачнёшь ковать, стойно галицкому Данилу, — пожалеешь.
Олег замер от этого голоса. И тут как нечто вовсе не значимое прозвучало:
— Тебя ждут у входа, чтобы проводить к нойону по имени Даритай. Там ты найдёшь свою молодость. Если вместе с ней найдёшь ещё и счастье — возьми его от меня в подарок. И передай Даритаю — моя воля, чтобы отдал он то, что ему и так не принадлежит. Иди.
Читать дальше



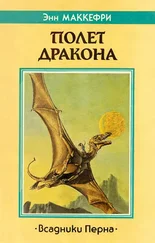





![Энджи Сэйдж - Полет дракона [litres]](/books/388411/endzhi-sejdzh-polet-drakona-litres-thumb.webp)


