Отчего вдруг потянуло рассуждать о поклонах? Наверное, оттого, что Олег Ингварьевич поклонился легко и низко. В этом поклоне — почти подползании — было редкостное гордое достоинство, как у крадущегося барса. Кажется, он понимал разницу между глупой дрофой, выпячивающей грудь (как иной черниговский князь), и опасным волкодавом. «Хороший человек, душевный, — подумал я с удовольствием, — и душу хранит, где положено, а именно в пятках, в самом защищённом месте, подобно главному румийскому герою. Как там называл Маркуз? Ага, вспомнил, А-хил-лес».
Вечное Небо... Русские попы, нарочно вооружились этим неодолимым румийским языком, чтобы никто их не мог поймать на бессмыслице. Одно это чего стоит: «Ме-та-но-и-тэ», то есть «передумывайте». Я нарочно достучался с толмачами до правильного перевода, чтобы не темнили. И не зря. Оказывается, они врут, переводя это слово «покайтесь». «Не каяться — думать надо», — так я сказал недавно своему христианскому сыночку Сартаку. Но он, похоже, опять не внял.
Воистину, говоря по-румийски, урусутские попы убивают ртом, — все бесы разбегутся.
Олег был, как и ожидалось, меднолицым и облачённым в добротный полосатый халат хорезмийского толка. Нет, всё-таки они — эти северные люди — не похожи на обезьян, как утверждают китайцы. (Обезьянка — подарок персидского ильхана Хулагу — у меня есть, присматривался, сравнивал.) Кроме того, давно уже не кажутся они неразличимыми между собой. За годы общения и войны с ними я понял главное: урусуты — народ хоть и тёмный, и отсталый, и в действиях предсказуем, как сосущее дитя (вот и в этом страхе перед поклонами, перед кумысом, перед деревяшками своих диких амулетов-икон), но всё же, подобно нам, монголам, у всякого своя особина.
А иные — и вовсе не глупее наших... особенно некоторых, от самоуверенности последний ум за пловом сожравших.
Бату и Олег. Кечи-Сарай. 1256 год
— Садись, коназ. Помнишь ли меня? — Бату знал, что тот помнит. Помнит и, похоже, ненавидит. Но что-то же понял там, в великом городе Потрясателя, наверняка понял.
Глядя на его медное, высушенное невзгодами лицо, повелитель подумал: печать страданий может быть благородной, вот как у этого мученика, или не очень благородной. У него самого, например, всё лицо в красных пятнах. Плано Карпини уж так перед ним изгибался, так егозил — а ведь наверняка (в том числе за то, что не получил от него ничегошеньки) эти пятна в доносе понтифику латинскому отметил. Мелочь, а всё-таки обидно.
Это ни о чём не говорит. Ни о чём, кроме того, что Небо обделило кожей, подарив полмира. Но, увы, за эти полмира не купишь даже кожи без пятен.
— Помню, — спокойно согласился Олег. И в этом «помню» надо было услышать недосказанное: «Ничего не боюсь, даже ненавидеть вас всех устал. Годы, нахальным ветром развеянные, мне теперь уже никто не вернёт».
— Справедлив ли мой друг и воспитанник Мунке к подданным своим? — Бату поймал себя на том, что нужно усилие, чтобы говорить не вкрадчиво, тем паче — не зловеще, и получилось, вопрос задал таким тоном, будто давеча посылал Олега с проверкой — исполняет ли Мунке свои обещания? Не тот тон, неправильный.
Бату смотрел, как борется в князе желание сказать им всем (наконец-то!!!), что накопилось — другого случая не представится, — и гордо умереть освобождённым. Однако под всем этим — как вода под сапогом на болоте — проступает застарелый испуг: родная земля уже так близко. Если его усталое подползание к ней завершится не встречей , а новым бесконечным прозябанием теперь уже в этих, волжских тенётах — он не сдюжит, разум потеряет. Ему, наверное, нашептали, что Бату любит, когда ему говорят правду, а это, как известно, худшее, что можно придумать. «Все они любят, чтоб им говорили правду, но обязательно приятную правду, ни слова лести. А где её такую сыскать? »
Олег всё-таки попытался начать «за здравие», но сорвался «на упокой». Если бы ему не сказали в Каракоруме, что он едет домой, может быть... Но теперь нет, больше не будет пресмыкаться. Он не хочет возвратиться домой тем, раздавленным, распростёртым: эта маска осталась там, далеко. Снова её нацепи — не снимешь. Это тебе не «хари» скоморохов, тут всё без смеха. Он не хотел везти домой это отринутое холопство. Привезёшь, а оно как «мор прыщем» пойдёт гулять и по родной земле.
— Мунке велик и справедлив. Всякая вера в Господа — магометанская ли, другая — «дорога для него, будто собственный палец» — он любит говорить такое... — Голос горемыки прокатился по мягкой юрте, словно у неё были каменные своды — глухо и величественно, потусторонне.
Читать дальше



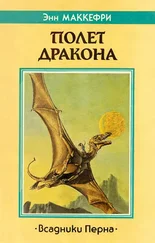





![Энджи Сэйдж - Полет дракона [litres]](/books/388411/endzhi-sejdzh-polet-drakona-litres-thumb.webp)


