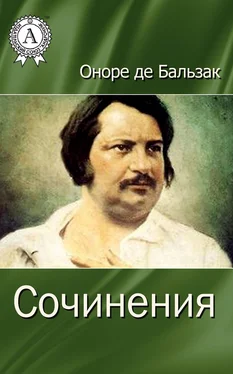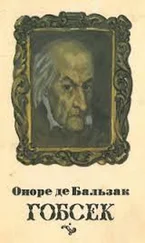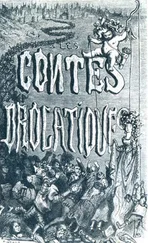– Друг мой, – говорила она входящему Максиму; – я испробовала все средства, Рошефильд не излетим. Теперь, в конце моей любовной карьеры, я поняла, что ум это большое несчастье.
– Объясняй яснее.
– Во-первых, ной друг, в продолжение восьми дней я изводила Артура до невозможности, пилила его самым патриотическим образом, употребляя все очень некрасивые средства нашего ремесла. «Ты нездорова, – говорит он мне тогда с отеческой нежностью, – я делаю для тебя все, что могу, я люблю тебя до обожания». – Вы ошибаетесь, сударь, – говорила я, – вы мне надоели. – «Так что ж! Разве ты не можешь развлекаться с умными и красивыми юношами Парижа», – отвечает этот несчастный человек. – Я была побеждена. Больше, – я почувствовала, что сама люблю его.
– Вот как! – сказал Максим.
– Что делать? Это выше наших сил и бороться с этим нельзя. Я попробовала взять другую педаль. Я стала приставать к моему судейскому кабану, которого я обратила в такого же ягненка, как Артур, я усадила его в качалку Артура, и… я нашла, что он очень глуп. Боже, как он невыносим! Но надо было задержать Фабиена для того, чтобы он застал меня с ним…
– Ну, хорошо! – воскликнул Максим, – кончай же! Когда Рошефильд застал тебя?..
– Тебе не догадаться, мой милый. Как ты велел, оглашение нашей свадьбы уже началось и контракт составляется, – придраться ни в чему нельзя. Когда свадьба решена, не опасно дать и задаток. Застав меня с Фабиеном, Рошефильд на цыпочках ушел в столовую, начал напевать «Брум, брум», кашлять и двигать стульями. Дурак Фабиен, которому я не могу все говорить, испугался… Вот, дорогой Максим, как идут наши дела… Если Артур как-нибудь утром застанет меня вдвоем, он в состоянии спросить: хорошо ли вы провели ночь, дети мои?
Максим покачал головой, несколько минут играл тросточкой. – Я знаю эти натуры, – проговорил он, – тебе остается только одно: выкинуть Артура за окно и запереть покрепче дверь. Ты должна повторить последнюю сцену с Фабиеном.
– Вот каторга! ведь я пока не замужем, и не научилась еще добродетели…
– Ты постараешься поймать взгляд Артура, когда он застанет тебя? – продолжал Максим; – если он рассердится, то все будет кончено между вами; а если он примется впять за свое «брум, брум», это будет еще лучше.
– Как так?
– Тогда рассердись ты и скажи ему: я думала, вы меня любите, уважаете, а у вас ко мне нет никакого чувства, вы даже не ревнуете меня… – Ты сама найдешь, что сказать! – В этом случае Максим (сошлись на меня) убил бы соперника (и заплачь), а Фабиен (пристыди его сравнением с Фабиеном), которого я люблю, наверно, застрелил бы вас. Вот это любовь! Так прощайте, берите ваш отель, я выхожу за Фабиена. Он дает мне свое имя! Он забыл мать ради меня. Наконец, ты…
– Знаю, знаю все! – воскликнула Шонц. – Ах, Максим! не может быть другого Максима, как не было второго Марселя.
– Ла Пальферин сильнее меня, – скромно заметил граф, – он хорошо пошел.
– У него язык, у тебя кулак и сила! Сколько ты перенес! Скольких ты побил! – сказала Аврелия.
– У Ла Пальферина все, он умен и образован, я же неуч, – отвечал Максим. – Я видел Растиньяка; он переговорил уже с министром юстиции, Фабиен будет назначен председателем, а через год получит орден Почетного Легиона.
– Я сделаюсь Набожной! – проговорила Шонц, с особенным ударением, ожидая одобрения Максима.
– Священники лучше нас, – вставил Максим.
– А на самом деле? – сказала Аврелия. – Значит, в провинции есть люди, с которыми можно говорить. Я начинаю входить в свою роль. Фабиен сказал матери, что Дух Святой просветил меня, и прельстил ее миллионом и председательством. Она согласна жить с нами, просит мой портрет и прислала мне свой. Если бы Амур посмотрел на него, то упал бы в обморок! Теперь уходи, Максим; вечером я должна буду покончить с моим бедным Артуром, и это надрывает мне сердце.
Спустя два дня Карл-Эдуард сказал Максиму при входе в Жокей-клуб: – Все сделано!
Слово это, заключавшее в себе целую ужасную драму, за которой часто следует месть, вызвало улыбку у графа де Трайля.
– Теперь послушаем сетования Рошефильда, – сказал Максим, – так как вы кончили одновременно, ты и Аврелия! Она выгнала Артура и теперь надо устраивать его. Он должен дать триста тысяч франков мадам Ронсере и сойтись с женою. Мы постараемся доказать ему, что Беатриса лучше Аврелии.
– У нас еще десять дней впереди, – тонко вставил Карл-Эдуард, – и, говоря откровенно, это немного. Теперь, когда я познакомился с маркизой, я могу сказать, что бедного Артура ограбили.
Читать дальше